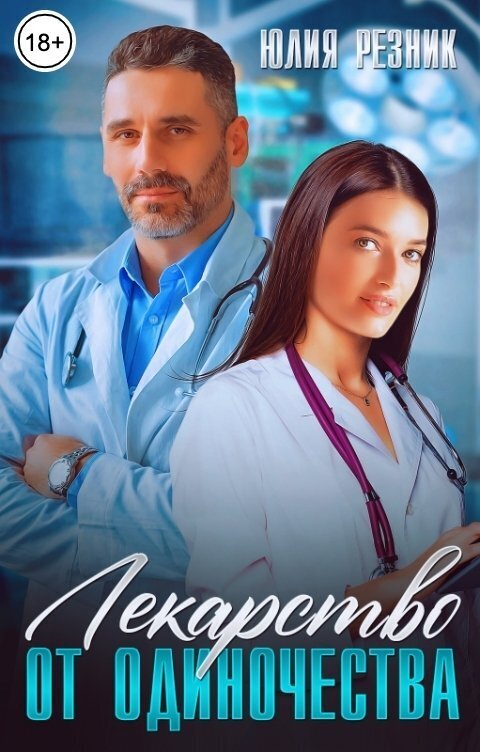к нему, к Платону. А он ведет себя сейчас, как урод, который пользуется случаем.
Платон сделал шаг назад и с фальшивой бодростью сказал:
— Хотите кофе? Все равно мы оба не спим.
Она явно растерялась, потому что ждала другого. И даже переспросила:
— Кофе?
— Ну да.
Ее до детской наивности выразительное лицо, на котором легко читались все мысли, вспыхнуло радостью облегчения. Платон был уверен, что она мысленно выдохнула: «Слава богу, пронесло!»
— С удовольствием, сейчас сварю, — она осторожно обошла его, направляясь к двери.
— Ну нет! Здесь я вам не уступлю. Разрешите представиться: восточный тиран. Жёсткий и непримиримый, — он щелкнул каблуками и склонил голову. — Кофе ирландский, настоящий, мне его в зернах привозят из Европы. Эти зерна сначала замачивают в ирландском виски, сливках и коричневом сахаре. А потом настаивают и сушат. Я его сам мелю, сам варю в закопчённой джезве из натуральной меди без всяких там кофе-машин. Этой джезве почти двести лет. Я ее за дикие деньги купил в Багдаде. Потому что именно Багдад раньше славился своим кофе. И секрет его был в особых джезвах из меди. Поэтому ни за что не уступлю это женщине.
— Да ладно, — удивлено протянула она. — Вот прямо имеет такое значение, кто варит? Мужчина или женщина?
— Да вы даже не знаете, о чем речь идет! — Платон решительно направился на кухню.
Пока он молол кофе, Надя с ревнивым вниманием наблюдала за ним, стоя за его плечом. Потом тщательно следила, как он ссыпает кофе в джезву и колдует у плиты.
— Да я точно также делаю, — воскликнула она. — Сейчас мешайте, иначе сбежит, — она схватила ложку и попыталась размешать коричневую пену, которая вот-вот была готова выплеснуться на плиту.
— Ни за что! — воскликнул Платон, перехватывая ее руку.
— Плиту же зальет!
— Да черт с ней! Главное: не мешать, когда поднимается пена. Испортите весь вкус!
— Нет никакой разницы! Только грязь разведете! Дайте мне, — она высвободила руку из захвата и вдруг решительно отпихнула Платона в сторону. — Я что кофе варить не умею, что ли? При всем уважении, на кухне вам лучше со мной не соперничать.
Но только Надя прикоснулась ложкой к кофейной пене, как Платон снова перехватил ее руку, решительно сомкнув пальцы на тонком запястье.
— Нет, говорю вам! Не трогайте! Сейчас испортите весь вкус!
— Да не придумывайте! — отмахнулась она. — Воображение у вас, конечно, богатое. Понимаю. Вы же творческий человек. Но вот такие элементарные вещи оставьте уж, пожалуйста, для нас, простых смертных.
— Всё, аргументы закончились. Терпение тоже. Перехожу к решительным мерам. Как говорил великий князь Святослав Игоревич: «Иду на вы», — честно предупредил Платон и легко, как пушинку, поднял Надю, ухватив за подмышки.
Надя покорно застыла в его руках. Ее тело напряглось, как струна. Держа ее на весу прямо, «свечой», лицом к себе, Платон отнес Надю к столу и хотел опустить на пол. Но вдруг увидел ее глаза. Она продолжала сжимать ложку и хмурить брови, а глаза смеялись. Одна из шпилек упала, волосы из причёски-короны рассыпались. Она громко дунула, убирая пряди с лица.
Ее дыхание обожгло Платона. Он не удержался и поцеловал ее в губы. Не в уголок рта, а полностью захватив ее губы своими. Она побледнела, зрачки расширились. Тревога, удивление, страх и… тщательно скрываемое желание отразились на ее лице. Она замерла в его руках, положившись на его, Платона, волю. И он увидел тот самый нерв, ту гамму чувств, которая перевернула его жизнь там, в кафе, когда Надя приехала возвращать ему телефон.
В его руках трепетала Адель Климта. Покорная, смиренная, очень уставшая. Женщина, которая от мужчины хотела только одного: счастья. Так мало, так много, так просто, так несбыточно. За спиной шипел, разливаясь по плите, кофе. А Платон не мог оторвать от Нади взгляд. Серебро. Тусклое, слабенькое, едва заметное под черным слоем страха, оно пыталось засиять. Оно тонкими, как пальцы, лучиками, стремилось раздвинуть мрак ее, Нади, чертовой жизни. Но у него не получалось. Платон осторожно опустил Надю на пол, чтобы не напугать хрустальную нежность серебра. Чтобы оно не спряталось снова под гнетом боли.
Вот она, эта суть, что ускользала на набросках: страх собственных желаний. Боязнь перемен, которые молотком стучали в мозг. Которые требовали от нее проснуться. А она, Надя, спала в грязном болоте неудавшейся жизни. В паутине тирана-мужа, этого гопника, который даже не понимал, какое сокровище держит в руках.
Крошечная часть Нади хотела свободы. Но привычка терпеть боль, терпеть молча и покорно, душила эту часть, не давая вырваться на волю. Точно как у Адель Климта, которая понимала, что живет с тупым торгашом, который интересуется только деньгами. Понимала, что нужно бежать, спрятаться, скрыться, но так и не смогла этого сделать. Ведь в еврейских семьях тогда не разводились. Точно так же, как в понимании Нади не разводятся, если есть больной ребенок.
— Я… вспомнил… — Платон нервно сглотнул, — мне… нужно в мастерскую. Срочно! Простите меня, кофе отменяется. Я там… вы здесь… сами, пожалуйста, — он осторожно опустил ее на пол и выскочил из кухни.
Платон ворвался в мастерскую. Дрожащими руками схватил чистый холст и установил на мольберт. К черту наброски! Он ухватит эту суть сейчас. Набело. Красками на холсте.
Платон лихорадочно писал и ничего не слышал. Он вообще не воспринимал реальность. Даже не поблагодарил Надю, когда она тихонечко, на цыпочках, зашла в мастерскую и поставила на табурет рядом с ним чашку ирландского кофе.
Платон выпил его, не чувствуя вкуса. Он, как сумасшедший, работал до утра. И когда серый утренний зимний свет проник в мастерскую, Платон отошел к противоположной стене огромной мастерской, сел на пол и прислонился к стене, глядя на картину.
У него получилось. Теперь можно умирать. Или до конца жизни ничего больше не писать. Ничего прекраснее этого уже не будет. Главная картина жизни была закончена за полночи. Если бы ему кто-то такое рассказал, он бы не поверил. Он и сейчас не верил, что эта красота — его творение. Платон встал, раскрыл стоящую в углу черную ширму и закрыл картину. Накрывать холстом нельзя, краска еще не высохла. Но показывать ее миру он был не готов. Нет! Еще не время! Пусть пока побудет за ширмой. Платон зевнул, устало потер глаза, лег на кушетку возле окна и заснул.
Его разбудила Надя. Осторожно поглаживая по плечу, она шептала:
— Платон, проснитесь! Завтрак готов.
Платон вскочил на ноги так резко, что она вздрогнула и отшатнулась.
— Извините, не хотел вас напугать.
— Да ничего.