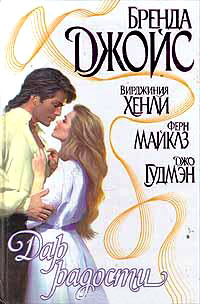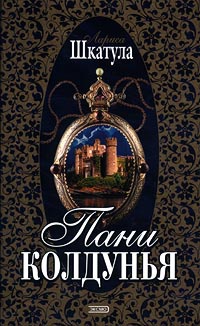Деревушки по дороге попадались все плоше. Жители порой выходили из домов и смотрели, как ведут каторжников. Одинаково тупое выражение застыло на лицах и седых стариков, и баб, и малых детишек. Мужчин видно не было, они месяцами безвылазно обитались в лесу, промышляя пушнину, чтобы продать ее за бесценок приезжим купцам и у других купцов втридорога купить хоть немного муки на вырученные деньги. В домишках пол был земляной, окна затягивали бычьим пузырем. Топили по-черному. Свечей отродясь не видывали. В долгие зимние вечера жгли лучину. Места были гиблые. Все еще Россия, да не совсем. Азия…
Гак бредил побегом. Как только видел поблизости опушку, с которой поднимался слабый дымок, толкал Сашу в бок.
— Ты видел? Видел?
— Что там?
— Это же беглые кашеварят. Их тут прорва…
На их пути действительно встречались разные люди. Случалось, что шедший навстречу бродяга нырял в придорожные кусты, едва завидев партию. Кто-нибудь из казаков скакал вперед, да куда ему было на лошади сквозь лесные заросли.
— Куда же бегут? — спрашивал Саша.
— Дураки они, понимаешь, идиоты! Домой бегут. В родную деревню. Тоска у них, видишь ли! Кручина. Тьфу. Там-то их и сцапают.
— А куда же бежать?
— В Америку! Непременно в Америку! В Китай нельзя — выдадут. Слышал. Знаю. Нужно через Байкал, к океану, а там — на иностранное судно. Нас возьмут. Мы ведь из благородных. Скажем, так, мол, и так, за убеждения страдаем…
— На Байкале, слышал я, ветра. Задует баргузин — и никакая лодка не спасет.
— А зимой, по льду? Только бы дойти!
От таких разговоров у Саши кружилась голова. Но потом он понял — ему не хочется в Америку. Если уж бежать — то в Петербург. Только — в Петербург. К ней, к Алисе…
Еще не вышли из сибирских лесов, а у Гака снова в голове помутилось. Фармацевт перевязывал тряпицей сочащуюся рану одного из мужиков и вдруг, как блоха, отскочил от него в ужасе, задергался весь, запрыгал, пытаясь стряхнуть с себя что-то. Бросился к конвоирам, заговорил почему-то по-французски. Те глаза вылупили да пинками его назад в колонну загнали. А он все кричал, ругался, плевался, чуть до обморока себя не довел. «Лепра, лепра… Все подохнем. И вы тоже подохнете», — кричал он конвоирам, грозил кулаком, пока не получил прикладом в зубы. «Все подохнем, — шептал он со смехом себе под нос до самого вечера. — Все!»
Саша, привыкший к его полоумным выходкам, тогда ни о чем не спросил. Но в ближайшем же городке фармацевт разделся догола и под дружный хохот заключенных стал вертеться и так и этак, осматривая самого себя с головы до пят. А потом сел и как-то обмяк сразу. Тело его было в пятнах со струпьями.
— Сними рубаху, — потребовал Гак.
— Зачем? — безразлично спросил Саша.
— Эпидемия, — прошипел фармацевт. — И я тоже, и все мы…
Не договорив, он рывком задрал на Саше рубаху, оголив правый бок. Саша махнул на него рукой и решил не сопротивляться. Гак обследовал его бок, подбежал сзади… Отвратительное, гнилое его дыхание надоело Саше, он дернул рубаху…
— Чего ты все вынюхиваешь?
— Лепра! У всех — лепра!
— Что такое?
— Проказа. Все сдохнем.
Саша слышал что-то о прокаженных от отца; воспоминания хоть и не удержались в памяти, но отдавали чем-то жутким и безысходным. Он посмотрел на свое тело внимательней и нашел несколько розовых пятен на локтях и коленях. Потрогал — не болит. Гак ткнул длинным скрюченным ногтем — не больно, даже не почувствовал ничего.
— Ты последний сдохнешь. Кровь из носа течет?
— Нет.
— Подожди.
И зашептал отчаянно Сашке в ухо:
— Сбежим, друг! Куда угодно — сбежим. Это ведь уже не каторжными работами пахнет, не рудниками. Здесь врачей нет, а как обнаружат… Думаешь, нас к другим заключенным отправят? — Он истерически рассмеялся. — Они нас заживо похоронят — сожгут или закопают. Иначе с этой болезнью нельзя. Эпидемия. — Он перешел на страшный, угрожающий шепот. — Не будет для нас никаких рудников. Смерть. Постреляют, да в ров. Слышал я про такое, когда заподозрили чуму в нашей губернии…
— А как ты ошибся? Ты ж не доктор!
— Я в Германии учился, — гордо выпрямился Гак, — да не закончил курса… Но с этакой штукой сталкивался.
— А не от тебя ли и пошло? — нахмурился Саша.
Тут Гак захохотал. Остановить его не было никакой возможности. Пинки и окрики конвоиров только раззадоривали его, он хохотал все громче и громче…
Все следующее утро Сани никак не мог выбросить из головы сказанного. Выходит, он уже труп. Только еще шагает по дороге и перекачивает воздух неизлечимо больными легкими. И шагать ему так только до Читы. Там разберутся, что к чему, и… Неужели действительно перестреляют? Он вспомнил про падеж скота в Малороссии. Тогда все стадо согнали в ров, порезали и подожгли. Неужто так и с людьми?
Просыпалось в нем какое-то забытое чувство, похожее на возмущение. Он ведь человек, душою наделенный. И мало того, что терпит муку несправедливую, так еще и вовсе уничтожен будет, как бессловесная тварь. За что же, Господи? Или нет тебя? Или плач человеческий не долетает в твои малиновые кущи?
Бежать было бессмысленно. Пятерых, рвавшихся из строя, пристрелили на тракте на его глазах. Хотя белобрысый монах и не бежать собирался, а животом маялся, в кусты полез. Так охране все одно — пристрелили как собаку.
Тягучий запах хвои насторожил его. Слишком был он теперь мил и дорог его сердцу. Ужас смерти сделал то, что не сумели ни холодные обливания, ни полуторагодовой путь на каторгу, — вернул его к жизни, заставил почувствовать ее вкус, цвет и запах. И так захотелось вдруг жить! Так захотелось вернуться назад, и чтобы отец — живой, и чтобы она, она — Алиса…
До Иркутска они так и не добрались. Колонна каторжников теперь оставляла за собой кровавый след… Гак дышал по ночам страшно. И только когда нос у фармацевта прогнулся в середине и когда кровь потекла у одного из охранников, забили тревогу.
Их не допустили до тюрьмы. Загнали в барак, стоящий в чистом поле, за деревней. Приехал человек из штаб-докторских… велел вывести фармацевта, посмотрел, поговорил с ним и, отшатнувшись в ужасе, замахал руками, погнал коляску прочь.
В тот же вечер Гак удавился. Сплел веревку из ветоши, в которую был одет, и… Переполох поднялся страшный. Солдаты бегали и орали, тараща глаза, им тоже было страшно, потому как не знали или, может, наоборот — догадывались, что будет. К телу Гака никто не прикасался, все боялись страшных пятен, хотя у многих были точно такие же.
Этой ночью Саше приснился необыкновенный сон. Алиса и черный незнакомый человек. Она говорит Саше что-то, зовет, а человек этот за руки ее держит, не пускает. Только вот слов, жаль, не разобрать. Саша вскочил взмокший, с трясущимися руками. И — сразу же решился. Все одно — двум смертям не бывать. Оглянувшись, раскрыл мешок, куда с вечера сам же по приказу солдат запихивал тело Гака, вытащил его окоченевшее тело, перенес под нары, на свое место, положил лицом вниз. Авось не заметят. Влез в мешок и замер. Будь что будет. Могут, конечно, и живьем сжечь. И то хорошо.