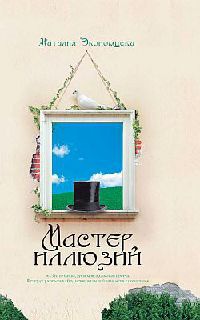Чистая доска
Начитаешься литературы, а потом мозги словно засраны. Если верить написанному, в мире все сплетено и странным образом обусловлено. Вереница причин, следствий, взаимособытий. А у меня нет вереницы благодаря отсутствию связей между сегодняшним и вчерашним. Я напрочь отрезана не только от предков, но даже от моего, уже проведенного на земле, личного времени.
Во мне нет традиций. И посему я сама — традициозачинатель. Вот как решу, так и будет. Введу, например, день поминовения Фифи, и Любоньке, после моей кончины, придется продолжать ее «чествовать». Любонька от Дня Фифи по гроб жизни будет зависима. Или заведу, как в Древнем Китае, залу еды для бомжей и стану сама им прислуживать. И куда же деваться потом Любоньке? Деваться ей некуда, если захочет меня продолжать, культивировать и мне наследовать. А непременно захочет, я в точности знаю. А я ни от чего не завишу, так как что, кроме денег, предками было оставлено? Но, если во мне нет традиций, значит нет и «морали». Откуда о морали мне знать? Не о том, что такое мораль, а о том, что она вообще есть? Из каких школьных пособий или учебников? Я абсолютно чиста, как незамаранная бумага. Tabula rasa[19]. И в том мое преимущество. Сама устанавливаю законы, пусть в узком своем пространстве, но законы зато — мои. О нет, разумеется, вы не обязаны им подчиняться, но и я не должна подлежать вашим. Потому что вы все — такой же, как я, беспамятный белый лист, и мало ли что может взбрести в ваши головы. У нас с вами нет точек соприкосновения, ибо каждый из нас — князек в своем разбойничьем царстве. И нет над нами общих законов, по которым можно нас осудить или помиловать, потому что судить надлежит исходя из правечного, по крупиночкам собираемого — от деда к отцу, целыми поколениями, и так далее. А откуда правечное вдруг возьмется? Мы же с вами не в Англии. Nullum crimen, nulla poena sine lege[20]. Вам переводить или не надо?
Это пусть мои королевские родственники, коли они есть, под бременем Фемиды, выношенной в лоне столетий, на тонких ногах прогибаются; изнывая, мораль свою прут, влитую по кровиночке. Как говорится, пусть мир погибнет ради свершения правосудия. А мне под чем прогибаться и что переть? Мораль вывожу свою, в собственной нещадовской лаборатории, с неминуемыми просчетами и потерями. Продвигаюсь на ощупь, словно таежный первопроходец. Я и крыса подопытная, и экспериментатор, выбирающийся из тьмы невежества. Но как бы ни было тяжело, я не жалуюсь — даже наука требует жертв, а что говорить о жизни! И вот, кстати, в качестве «рабочего эксперимента» я ее и порешила. Так, чтобы взять кое-что и проверить. Насчет «смерти». Не в смысле пресловутой «дозволенности» (литература!) и не во благо самой Лизы, погрязшей в никчемности, а в целях исключительно непрактичных — трансцендентальных.
Марево
Во мне живет интуиция, облачившаяся в догадку, которая quovis modo[21]требует подтверждения. Или нет, скажем так: бремени доказательства. Попробую объяснить. Поскольку движимый творческой мыслью субъект, каких до ничтожности мало, видит невидимое, вплоть до небывших до него смыслов и форм, то он, этот субъект, и есть источник тайной картины мира, им к жизни вызванной. При том, что у этой «картины» и «жизни как таковой» нет общего знаменателя узнавания и простому человеку извне она решительно недоступна. L’imagination gouverne le mond[22]. He правда ли? Но ведь создавшее мир сознание само нереально — клубок наваждений, проекция морока на стекле? А тогда: стоит ли такому исключительному субъекту, отвергшему «общую жизнь», относиться к только им и «увиденному» всерьез? Относиться всерьез — к чему? К пустоте, набитой его снами? К неяви его химер, притворившихся сущими?
Вот, для примера, Лиза. Разве сама по себе она существует, вне моих о ней представлений? И где тогда она размещается? Да в придуманном мною месте! И чем она занята? Да моими фантазиями! Она клацает натренированными зубами, чтоб удержаться в пределах моих видений, потому что за их краем — бессвязность и мрак, потому что там она исчезает, расплывшись пятном на воде, лишенная очертаний. Что вы так удивляетесь? Паразитов — хоть пруд пруди. А Лиза, прошу заметить, — двойной паразит; боясь без меня раствориться, она втихаря, про запас, заглатывает кусочки моей жизни — в надежде, что и вне придуманной для нее «сцены действия» не исчезнет. Но я не титан, и так устала восполнять «съеденное».
Из написанного вы уже поняли, что, как сгусток энергии, я наблюдаема не всегда, бывают провалы. Тогда, скажите на милость, куда же деваются мои люди, когда я, решительно обессилев, распадаюсь на точечные заряды, перестаю «держать» воплощенное? Они продолжают барахтаться по двигательной инерции в гаснущем ореоле моих видений, чтобы потом быть затянутыми в дыру, образованную моей же рассеянностью. Так зачем опять и опять воскрешать призраков, которые снова рассыпятся в прах, лишь только ослабнет мое сознание, уставшее претворять? К чему горевать о выдумке, что, перестав меня развлекать, начала домогаться самостоятельности? Nil de nihilo fit[23]. He лучше ль пустое вернуть пустому, невзаправду почувствованное и увиденное — действительному ничто?
Коли я не права, то встречу сопротивление отдираемого куска, увижу реальную брешь, пробитую Лизиным выпадением из живого. А если права, противодействия не случится и все обойдется без криков и боли, сопутствующих вычитанию в никуда. Но это потом, а сейчас, положа руку на сердце, — фантасмагория по имени «Лиза» смертельно мне надоела. Обрыдла эта бездарная глупая эманация, ставшая наваждением. А чем она бездарнее и глупее, тем в моем сердце закоренелее, тем жальчее, грустнее, тревожнее — ну и так далее. Но это ведь баловство — пристрастие к мареву? Как вы считаете?
Ровность
Для чистоты планируемого эксперимента нужны ясная голова и абсолютная непредвзятость, посему отношение к «Лизе» придется полностью прекратить за неимением адресата. Могу ли я похвастать «отношением» к комару — не считая легких, почти бессознательных раздражения и брезгливости, — когда я его прихлопываю ладонью? Но если я стану за ним гоняться, то могу озвереть, да и он, мнящий себя реальным, начнет улепетывать, напугается — и выйдет какая-то некрасивая суета и ничего больше. А разве вы засекаете отношение к подрагивающей лягушке, когда вы ей вспарываете живот хирургическим острым скальпелем sine ira et studio[24]? Ведь если отношение есть, то вы ее режете с постыдным остервенением или с не менее жалким, холуйским привкусом превосходства и удовольствия, что отмечается и самой потерпевшей, отныне именуемой «жертва». Ни то ни другое состояние, придавленное грузом эмоций, меня не устраивает. Любой душевный толчок — будь то толчок злобы, корысти, страсти — обессмыслит чистое действие, сведя его к вульгарному акту уничтожения. Уничтожения, простите, чего? В том-то и дело. Я ведь только восстанавливаю баланс, неосторожно мною нарушенный, когда всякая загогулина, рожденная силой воображения, берется осваивать мое действительное пространство. Бездоказательным полым «ничто» меня вокруг пальца не обведешь! Чувства — штука серьезная. И если я чувствую (со знаком минус ли, плюс — это неважно), то, значит, ответственно признаю существование морока. Да чего я тут, собственно, распинаюсь? Всего лишь «vacuum horrendum»[25], от которого пришло время избавиться.