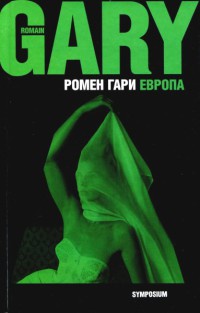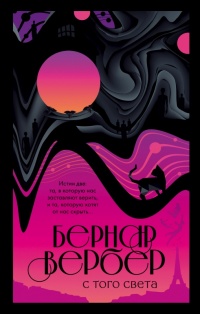— Но ты ведь не знала, что за документы находились в портфеле Гиммлера, — заметил я.
— Верно. А поскольку я не умею читать по-немецки, то продолжаю пребывать в неведении. Но наверняка это важные документы. Поэтому я подумала, что будет лучше, если они окажутся в руках Смита.
И с этими словами Монтсе достала из своего чемодана черный кожаный портфель.
— Ты приехала из Барселоны в Рим с портфелем Гиммлера в чемодане? — ахнул я, не веря собственным глазам.
— Я спрятала его среди нижнего белья. Кроме того, Юнио дал мне пропуск — на случай, если я однажды захочу вернуться в Рим. Это было нетрудно.
Я оторопел от такой храбрости. Она сама разработала план, осуществила кражу (можно сказать, хитроумную для человека, не сведущего в таких делах), а потом хладнокровно переправилась на другой берег Средиземного моря, спрятав добычу в нижнем белье. Поступок, достойный восхищения!
— Ты настоящая Мата Хари.
— То, что случилось с моим дядей, открыло мне глаза. Я решила сражаться с фашизмом любыми способами, — заявила она.
— А почему ты не можешь заниматься этим в Барселоне?
— Потому что у Франко в Испании все под контролем. А вот если Гитлер и Муссолини проиграют войну в Европе, у Франко не будет союзников, он окажется в изоляции… Ты продолжаешь видеться со Смитом?
— Да. Раз в три или четыре недели.
— Окажешь мне услугу? Передашь ему документы?
Я схватил портфель и положил его в шкаф, даже не взглянув на содержимое.
— Завтра утром я постараюсь договориться с ним о встрече, — пообещал я.
— Слава Богу. Во время плавания я постоянно думала о том, что ты… мог измениться.
— Я действительно изменился, уверяю тебя. Я передаю Смиту чертежи бункеров, которые проектирую. Он утверждает, что за это меня могут обвинить в государственной измене.
Я впервые обсуждал эту тему с посторонним человеком, и у меня возникло ощущение, что я говорю о ком-то другом, тем более что изменником я себя вовсе не чувствовал. Я просто поступал по совести и не видел в своих поступках ничего плохого, а только пользу, которую они принесут моей душе.
— Это значит, что тебя могут расстрелять, — заметила Монтсе.
Даже Смит не осмеливался вот так, напрямую, высказать подобную мысль.
— А как ты думаешь, что сделают с тобой, если история с портфелем Гиммлера откроется?
— Значит, нас расстреляют вместе. Это будет зловещая шутка судьбы.
Меня встревожило, что она с такой легкостью говорит о столь серьезном деле.
— Вопрос в том, умрем ли мы гордо, с сознанием выполненного долга. Полагаю, именно это утешение остается у приговоренного к смертной казни. Мысль о смерти не пугает меня, но я не могу себе представить, как и когда умру. Меня не интересуют детали, и, конечно же, я не знаю, как поведу себя перед расстрелом. Я думаю, что моя храбрость пока абстрактна, и мне бы не хотелось подвергать ее испытанию.
— У меня все наоборот. Я могу вообразить себя перед расстрелом: я посмотрю на своих палачей, высоко подняв голову; но я не люблю думать о смерти или, лучше сказать, о ее истинном значении. Иногда мне хочется умереть — так было, когда я узнала правду о дяде, но мне кажется, это просто проявление свойственной любому человеку эмпатии, сопереживания с теми, кто страдает. Подобное желание умереть дает силы продолжать жить, чтобы бороться с несправедливостью.
Ночь наступила почти неожиданно, и я вдруг сообразил, что в доме всего одна спальня, с одной-единственной кроватью, так что кому-то из нас придется спать на диване.
Но когда пришла пора укладываться, она велела мне лечь в постель и погасить свет, а сама переоделась в ванной и устроилась подле меня с такой естественностью, будто уже лет десять спала рядом. Кажется, я никогда больше не испытывал такого ужаса, как в ту ночь; легкие мои сжались, мышцы от напряжения одеревенели, как у трупа. В каком-то смысле я чувствовал себя гитарой в руках настройщика. Все, решительно все, случившееся той ночью, произошло по воле Монтсе, и это определило наши дальнейшие отношения. Я никогда не обсуждал этого с нею, но всякий раз в минуты близости у меня возникает странное и неловкое ощущение, будто она находится где-то далеко, в мире, куда мне нет доступа. Быть может, другой мужчина вел бы себя иначе, но моя гордыня не позволяет мне жаловаться, потому что, в сущности, я согласен довольствоваться той частью Монтсе, которая принадлежит мне. Я никогда не требовал от нее верности, в том числе и потому, что не знаю, как обсуждать с ней этот вопрос. Меня даже не волнует то обстоятельство, что она могла изменять мне, потому что я слишком хорошо знаю ее и понимаю: ее любовнику, как и мне, она отдаст лишь часть себя, ибо она никогда и никому не будет принадлежать полностью.
В ту ночь не произошло ничего необычного, и однако, она навсегда закрепила наш союз. Монтсе одарила меня близостью и радостью, оттого что мы вместе завтракаем, сидя на террасе нашего дома и глядя на утопающий в густой листве Яникульский холм, обедаем и ужинаем, пока мир вокруг нас непоправимо истекает кровью. Оглядываясь назад, я думаю, что, несмотря на разницу в характерах, мы оба сохранили в душе оптимизм — качество по тем временам столь же редкое, как мясо или импортные товары. Яркое подтверждение моих слов — мы поженились через несколько недель, наперекор войне. Мы могли бы отложить свадьбу до тех пор, пока не окончится война, но наш поступок придал нам уверенности в себе, укрепил нас в мысли, что мы можем управлять обстоятельствами, а не подчиняться им. Собственно говоря, я продолжаю считать оптимизм одной из основ наших отношений. Можно сказать, что он приносит нам пожизненную ренту.
6
Любовь к Монтсе помогла мне смириться с тем фактом, что у нас никогда не будет детей. Помню, когда мы заговорили о свадьбе, она попросила меня, прежде чем принимать решение, выслушать ее.
— Это самый печальный эпизод в моей жизни, — добавила она.
А потом с удивительным спокойствием рассказала мне историю о том, как неопытная и влюбчивая девушка потеряла голову из-за молодого человека на несколько лет старшее ее, чья привлекательная внешность, идеалы и огромный жизненный опыт ослепили ее. Она оказалась в интересном положении, но знала, что дни ее любовника в этой стране сочтены, поскольку он был иностранцем. Если она оставит ребенка, это обернется бесчестием для нее и для ее семьи. Не говоря уже о том, что это могло скомпрометировать молодого человека, занимавшегося чрезвычайно важной работой, имевшей государственное значение. Последовать за любимым в его страну она не могла, поэтому решила ничего ему не говорить и сделать аборт. Для этого и прибегла к помощи своего дяди, сторонника либеральных идей. Он знал врачей, способных решить подобную проблему. К несчастью, после операции Монтсе лишилась возможности в дальнейшем иметь детей, и она решила, что это наказание, которому подвергает ее Господь за ее поступок. Прошло три года, прежде чем она сумела оправиться, и все равно время от времени ее начинали мучить угрызения совести — эта болезнь стала для нее хронической.