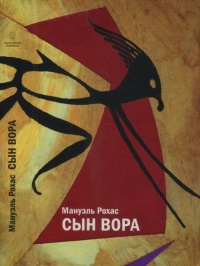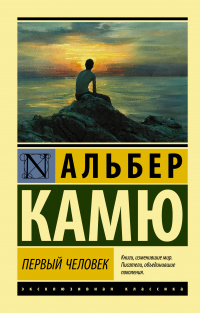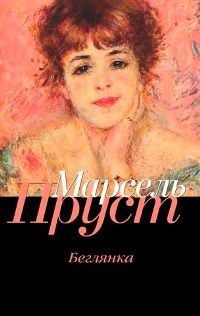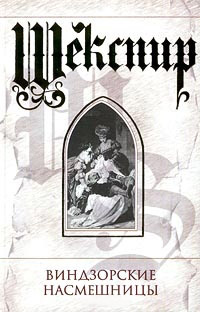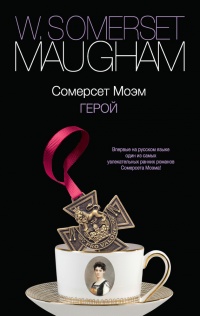И вот настал тридцать шестой год, и времени оставалось все меньше и меньше. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии и, конечно, как говорил Юрист, тот, третий, в Испании. И однажды Юрист мне говорит:
— Складывайте-ка чемодан. Завтра утром вылетаем из Мемфиса. Нет, нет, вы не бойтесь заразы, теперь вам можно с ними познакомиться. Едут в Испанию, сражаться в республиканской армии, и, наверно, он так долго ее грыз и терзал, что она наконец сказала: «Фу, пусть будет по-твоему».
— Так, значит, он вовсе не из этих либеральных, свободомыслящих передовых художников, — говорю, — значит, он — обыкновенный серый парень, который считает, что если с девушкой стоит спать, так стоит и заботиться о ней всю жизнь, чтобы у нее были и крыша над головой, и еда, а может, и немножко карманных денег.
— Ну, ладно, ладно, — говорит. — Ладно!
— Только поедем мы с вами поездом, — говорю. — Я вовсе не боюсь лететь самолетом, но просто когда мы будем проезжать через Вирджинию, я смогу увидеть то место, где этот самый иммигрант, наш первый Владимир Кириллыч, пробивал себе дорогу в Соединенные Штаты.
Я дожидался его на углу со своим чемоданчиком, когда он подъехал, открыл дверцу машины и посмотрел на меня, а потом, как говорят в кино, надвинулся на меня крупным планом в сказал:
— О, черт!
— Собственный, — говорю, — сам купил.
— Вы — и в галстуке, — говорит. — Да вы их никогда не носили, у вас, наверно, никогда в жизни галстука не было.
— Вы же мне сами сказали, — говорю. — Ведь там свадьба.
— Снимайте, — говорит.
— Не сниму, — говорю.
— Я с вами не поеду. Не хочу, чтобы меня с вами видели.
— А я не сниму, — говорю. — Это я даже не ради свадьбы. Понимаете, в первый раз на меня будут смотреть те края, откуда появился первый В.К.Рэтлиф. Может, я им хочу понравиться. Может, я не хочу, чтоб они меня стыдились.
Словом, сели мы на поезд в Мемфисе, а на следующий день проезжали Вирджинию — Бристоль, потом Роанок, Линчберг, потом повернули на северо-восток вдоль синих гор, и где-то впереди, мы точно не знали где, было то место, где первый Владимир Кириллыч наконец нашел прибежище, правда, мы даже не знали, какая у него была фамилия, а может, у него и фамилии не было, пока Нелли Рэтлиф — тогда писалось «Рэтклифф» — его не нашла, да мы вообще много чего не знали: как он затесался в ряды немецких наемников, в армию генерала Бергойна, которого побили при Саратоге[19], но только Конгресс отказался выполнить условия, на которых они сдались, и разогнал всю эту шайку-лейку, и они шесть лет подряд шатались по Вирджинии без денег, без еды, а многие, как тот первый Владимир Кириллыч, и без языка. Но ему ни то, ни другое, ни даже третье не понадобилось, чтобы попасть не только в тот поселок, куда нужно, но и именно на тот сеновал, где его нашла Нелли Рэтклифф, когда искала куриное гнездо или еще что. И никакие слова ему не понадобились, чтобы съедать то, что она ему тайком носила, — может, он и про работу на ферме первый раз услыхал, когда она его наконец привела к своим домашним, и, уж конечно, немного слов ему было нужно, чтобы события развернулись дальше — в тот день, когда ее папаша, или мамаша, или братья, кто бы там ни был, может, просто соседка, увидели, что у нее растет живот, — тогда они поженились и у того В.К. наконец законно появилась настоящая законная фамилия — Рэтклифф, а его потомок переселился в Теннесси, а потомок того — в Миссисипи, только к тому времени они уже писались «Рэтлиф», и старшему сыну в каждом поколении до сих пор дают имя «Владимир Кириллыч», и до сих пор он полжизни тратит на то, чтобы этого ни одна душа не узнала.
На следующее утро мы прибыли в Нью-Йорк. Приехали рано, еще семи не было. Что-то очень уж рано.
— Наверно, они еще и завтракать не кончили, — говорю.
— Кой черт! — говорит Юрист. — Они еще и спать не ложились. Это вам не Йокнапатофа, а Нью-Йорк. — Тут мы поехали в гостиницу, где Юрист заранее заказал нам номер. Только это был не номер, а три номера: гостиная и две спальни. — Можем тут и позавтракать, — говорит он.
— Позавтракать? — говорю.
— Нам подадут сюда.
— Это вам Нью-Йорк, — говорю. — Завтракать в спальне, или в кухне, или на задней галерейке я могу и дома, в Йокнапатофском округе.
Так что мы спустились вниз, в ресторан. Тут я говорю:
— Когда же здесь завтракают? В сумерки, что ли? А может, когда встанут, тогда и едят?
— Нет, — говорит. — А нам надо сперва сделать одно дело. Впрочем, — нет, — говорит, — два дела. — Он опять смотрел на это самое, хотя, надо отдать ему справедливость, он ни слова не сказал с той минуты, как я сел к нему в машину в Джефферсоне. И я вспомнил, как он мне когда-то рассказывал, что в Нью-Йорке климат не похож ни на какой другой климат в мире, но что бывает погода, словно специально придуманная для Нью-Йорка. И в тот день была именно такая погода: утро стояло сонное, голубое, теплое, как бывает ранней осенью, когда кажется, что небо само опускается на землю мягким таким, голубым туманом, а высокие здания летят в него и вдруг останавливаются, и все их грани растворяются, будто солнце не просто на них светит, а словно бы звенит, вот как провода поют. А потом вижу — вот оно: магазин, в нем громадная витрина и во всей этой витрине — один-единственный галстук.
— Погодите, — говорю.
— Нет, — говорит, — можно было терпеть, пока его видели только проводники в вагоне, но в таком виде идти на свадьбу нельзя.
— Нет, погодите! — говорю. Потому что я про эти нью-йоркские магазины на укромных улочках тоже кое-что слыхал. — Если целую витрину можно занять одним галстуком, так, наверно, за него сдерут доллара три, а то и все четыре.
— Ничего не поделаешь, — говорит он. — На то здесь и Нью-Йорк. Пойдем!
И внутри тоже ничего, только золоченые стулья, две дамы в черных платьях и господин — одет он был, как сенатор, или, на худой конец, как священник, и назвал Юриста запросто, по имени. А потом — кабинет, на столе — ваза с цветами, а за столом — невысокая полная смуглая женщина, и платье на ней, каких никто не носит, волосы с проседью и замечательные карие глаза, просто красота, хоть и чуть-чуть навыкате: она расцеловала Юриста, а он ей говорит:
— Мира Аллановна, вот это Владимир Кириллыч, — а она на меня посмотрела и что-то сказала, я сразу как-то догадался, что по-русски, а Юрист ей говорит: — Вы только взгляните. Только посмотрите, если сможете выдержать, — а я говорю:
— Честное слово, не такой уж он плохой. Конечно, лучше было бы желтый с красным, а не розовый с зеленым. Но все-таки… — а она тут говорит:
— Значит, вы любите красное с желтым?
— Да, мэм, — говорю. А потом говорю: — В сущности… — И остановился, а она говорит: