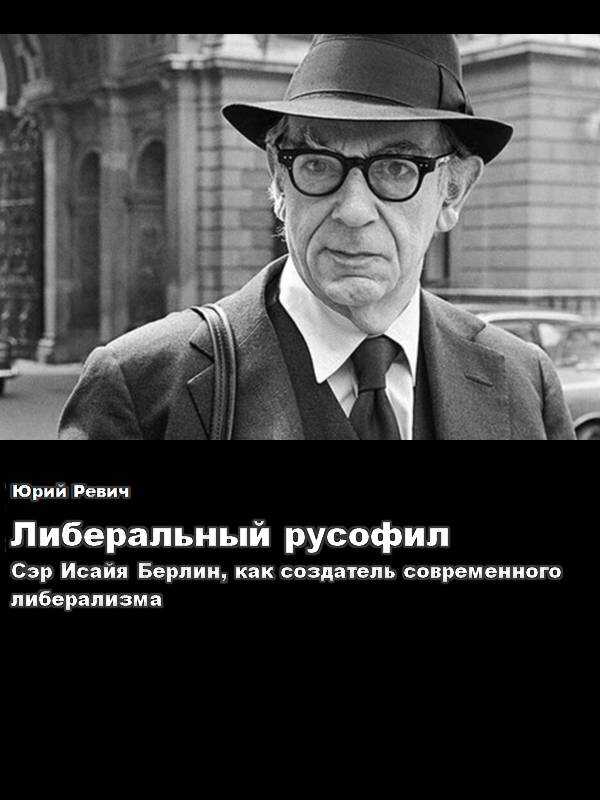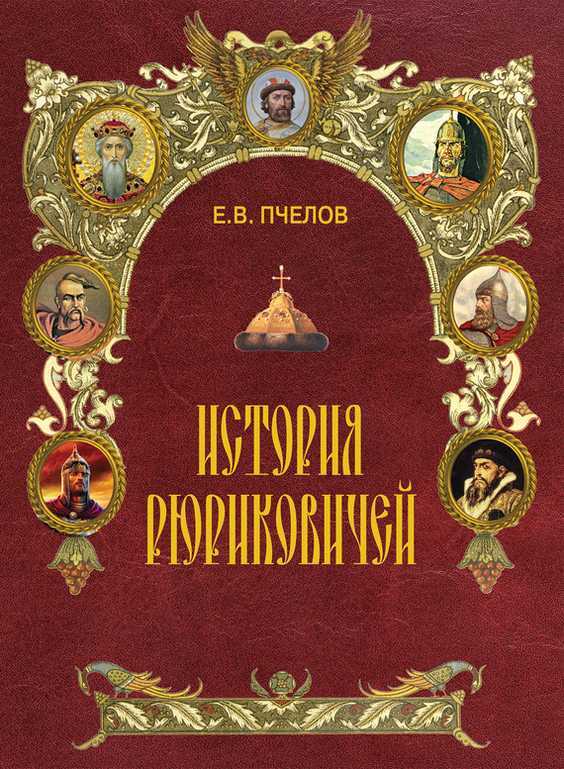«измученным ртом» кричала боль «стомильонного народа», и потому она была уверена, что когда-нибудь ей поставят «памятник» «в этой стране». Тут она в полной мере следовала традиции Пушкина, который, взяв эпиграфом слова Горация «Exegi monumentum», так обосновывал свое право на бессмертие: «…в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал».
О беседах, которые состоялись в Оксфорде между Ахматовой и Берлиным, мы знаем только по изложению сэра Исайи. Третий том заметок Лидии Чуковской, который может выйти лишь посмертно[8], расскажет, вероятно, намного больше о личных впечатлениях Ахматовой. Анатолий Найман счел достойным упоминания лишь один момент: «После возвращения из Англии она рассказала о своей встрече с человеком, который играет особую роль в ее жизни. Этот человек, сказала она, живет сейчас в чудесном замке, окруженном цветочными садами, у него прислуга, серебро и т. д. „Я подумала, — добавила она, — что ни один мужчина не должен позволять, чтобы его запирали в золоченую клетку“».
Этот тихий упрек в какой-то степени можно отнести на счет того культурного шока, который испытывает советский человек, столкнувшись с западным благоденствием. Корней Чуковский, например, посетив Оксфорд, был совершенно подавлен, наблюдая, как живут верхние десять тысяч. Особенно большое впечатление произвела на него супруга Берлина, говоря о которой, он не упустил случая отметить, что она происходит из чрезвычайно богатой семьи. «Стройная, молчаливая, изумительно тактичная, повела меня в комнату своего сына. Огромная комната, половину которой занимает железная дорога (игрушечная) с рельсами, вокзалами и т. д. У мальчика комиксы самые аляповатые <…>, он смотрит телевизор (дебри Африки), на столе учебник латинского языка; я спрашивал его латинское спряжение всяких глаголов, лат. склонение он отвечал безупречно. <…> Я забыл сказать, что у Берлиных останавливался Шостакович, когда получал ученую степень…»
У вечно «бездомной» Ахматовой семейная идиллия большого восторга не вызвала, и с леди Берлин, вне всяких сомнений, восхитительной, она беседовала, надо думать, весьма холодно и формально. Возможно, замечание насчет «золоченой клетки» предназначено было для леди Берлин; не исключено также, что Ахматова просто не пожелала ее замечать. «Золотая клетка» интересна в другом плане. Одно из последних стихотворений Ахматовой, четверостишие, датированное 5 августа 1965 года, помещает этот мотив в необычный контекст:
Не в таинственную беседку
Поведет этот пламенный мост:
Одного в золоченую клетку,
А другую на красный помост.
«Пламенный мост» — символ двух путей, которые могут вести к славе. Того, кто ступает на один путь, запирают в клетку достигнутого ранга и положения; пускай эта клетка — золотая, но она все-таки клетка. Выбравшего «другой» путь — просто убивают. Русский текст уже посредством грамматических форм показывает, что первым путем идет мужчина, вторым — женщина. Судьба, соединившая их, исполнилась, и потому их пути безвозвратно расходятся.
О страхе перед славой говорит другой фрагмент, тоже относящийся к 1965 году:
Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.
Конкретно эти строки могут относиться и к августу 1946 года, когда Ахматова «проснулась знаменитой», после того как Жданов ославил ее перед всем миром, назвав «блудницей и монахиней».
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела,
жалуется она Гостю. Хотя «худая слава» все еще бросала слишком густую тень на «добрую славу», о которой поэтесса мечтала в душе. Причем тень эта была вовсе не символической. После возвращения из Италии, рассказывала она Берлину в Хидингтоне, люди из КГБ расспрашивали ее о римских впечатлениях: не наблюдала ли она антисоветских настроений у писателей, встречалась ли с русскими эмигрантами? «Что будет она отвечать, когда подобные вопросы зададут, а это неизбежно, об Англии? О Лондоне? Об Оксфорде?»
Эти тревоги объясняют, хотя бы частично, почему встреча Ахматовой с Берлиным в июне 1965 года было более грустной, чем долгая разлука с 1946 по 1956 год и даже чем «невстреча» в августе 1956 года. Страх в душе Ахматовой был всегда, она научилась жить с ним и преодолевать его. Но как раз в июне 1965 года ее воля к жизни угасла. Дни запоздавшей оксфордской встречи были проникнуты такой же глубокой меланхолией, какой исполнена, например, заключительная глава «Лотты в Веймаре».
В отличие от той давней женщины, что всю ночь беседовала с Берлиным в Фонтанном доме, Ахматова, проведя несколько дней в оксфордском отеле «Рандольф» и побывав в гостях у сэра Исайи, думает о смерти.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить, —
пишет она уже в 1962 году, в стихотворении «Последняя роза», посвященном Иосифу Бродскому. Планы на будущее у нее едва теплятся, и, прощаясь перед возвращением на родину с множеством старых и новых знакомых, она скорее из вежливости, чем убежденно говорит им: «До свидания». На посещение Гостя из будущего теперь, спустя двадцать лет, она смогла ответить лишь как «гостья из прошлого».
ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Бессмертие Анны Ахматовой порождает немалые проблемы для потомства. Уже в скором времени после ее смерти началась свара между семьей Пуниных и Львом Гумилевым: и те и другой доказывали свое право на владение литературным наследством Ахматовой. Сама поэтесса намеревалась передать свой архив ленинградскому Пушкинскому Дому, чтобы тем самым завершился ее — как она говорила — «вечный роман» с Пушкиным. На этом согласились, встретившись после похорон, и Лев, и Пунины, и близкие друзья Ахматовой. За архив, содержащий большое количество рукописей и обладающий огромной ценностью, Лев, единственный прямой наследник, просил у Пушкинского Дома символическую цену — сто рублей.
Однако легендарный сундук, с которым Ахматова никогда не хотела расставаться, находился у Пуниных. И вот Ирина Пунина и ее дочь Каминская заключили незаконную сделку: разделив архив на две части, они продали одну часть ленинградской Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, вторую — Центральному архиву литературы и искусства (ЦГАЛИ). Эту сделку, весьма, видимо, прибыльную, попытался расстроить Пушкинский Дом, на стороне которого был и Лев Гумилев. Процесс длился четыре года, и в конце концов суд Ждановского (!) района Ленинграда, проигнорировав права Льва как наследника, принял решение в пользу Пуниных.
Некоторые современники, в том числе Иосиф Бродский, высказали подозрение, что за абсурдным решением стоял КГБ, который таким образом хотел воспрепятствовать, чтобы некоторые детали затяжного