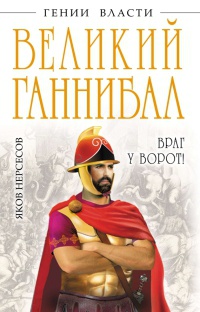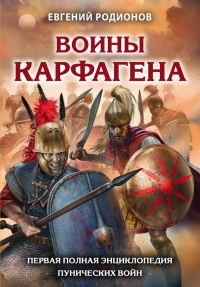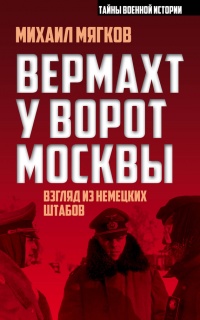— Действительно, поворот неутешителен, — сказал Церцер. — Некоторым из нас следует соблюдать максимальную осторожность. Заняв трон, дон Педро проявит свойственную ему склонность к мщению, а нам не остается ничего другого, как жить в этих условиях, ощущая свою беззащитность.
— Да смилостивится над нами Господь! Остается уповать на него, потому что счастье отвернулось от нас, друг мой, — вздохнул кастилец.
Плач толпы сливался с молитвами. Нескончаемый кортеж дворян, члены городского совета, рыцари в черных камзолах, клирики в капюшонах, аббаты в фиолетовых мантиях и надменные судьи — все шли опустив головы за королевским гробом. Под звуки молитв и сухой барабанный бой шествие миновало улочки Магдалены и направилось к кафедральному собору, откуда слышалась элегическая мелодия свирелей и перезвон колоколов.
— Ora pro nobis! — раздавалось отовсюду. — Ora pro nobis![106]
Двор древней мечети, где установили монарший катафалк, был заполнен городской знатью. Апельсиновые деревья по сторонам сияли, как светильники, а десятки больших свечей, подобно фантасмагорической световой роще, придавали катафалку схожесть с дарохранительницей Великого четверга. Туманная дымка еле позволяла различить бледное лицо и жалкий взгляд королевы Марии, одетой в траур и окруженной скорбными дамами, меж которых вызывающе выделялась фигура доньи Гиомар.
Рядом стоял дон Педро — подбородок почти прижат к груди, на лице всегдашняя вызывающая усмешка. Мать и сын поджидали тело, неподвижные и бесстрастные. Казалось, что королевской вдове, взиравшей на окружающих с мстительным высокомерием, было обременительно присутствовать на этой траурной церемонии. Разве не являлся виновником ее несчастий этот человек, умерший у стен Гибралтарской крепости? Или, напротив, всю вину следовало взвалить на развратную донью Элеонору? Королева в равной степени ненавидела обоих, и это было единственное чувство, зревшее теперь в ее душе и искавшее надежного способа поквитаться за все.
При приближении гроба королева-мать подняла голову, и на лице ее возникла победная гримаса. И хотя месть есть занятие для мелкой души, которого хватает не более чем на день, нет женщины более опасной, чем та, которой пренебрегли. «Демоны мести вершат свои дела в тишине, а к этим бастардам, рожденным шлюхой Элеонорой, у меня жалости не будет», — проносилось у нее в голове.
Увидев, что их нет рядом с телом отца, как ожидалось, она пробормотала сквозь зубы: «Чтоб они провалились, выродки стервы сатанинской!»
Шестеро знатных дворян в доспехах, будто отлитые из бронзы с позолотой, подойдя медленным шагом, опустили гроб у могилы. Заупокойную службу провели епископы, прибывшие из Толедо, Бургоса, Сантьяго, Севильи и Леона, которые восхваляли великодушие и твердость духа умершего, беспощадного к врагам и доброго к вассалам.
— Rex Adefonsus requescat in pace![107]— провозгласил толедский примас дон Хиль де Альборнус.
— Аминь! — хором отозвалась площадь перед кафедральным собором.
Окончание ритуала похорон совпало с исчезновением на горизонте вечерней зари, что еще более усилило скорбное настроение толпы, которой овладел священный ужас. Висящая над городом угроза «черной смерти», смерть короля, а также репутация его наследника не предвещали ничего хорошего.
Прощаться с королем пришли все городские сословия. Проститутки, сутенеры, консулы, монахини, моряки, грузчики, менестрели и церковники — все порывались поцеловать его кожаные башмаки. Народ — христиане, евреи и мавры — до самого утра в молитвах простояли на коленях у тела преставившегося Альфонса XI, короля Кастилии и Леона; Яго, Фарфан, Ортега и Исаак бок о бок стояли на коленях под апельсиновым деревом и молились в тишине.
Костлявая забрала самого дорогого и уважаемого человека осиротевшего отныне королевства.
* * *
Недалеко от этого места, во дворце Тенорио, Субаида бинт Умар, ас-Сайида, не могла сдержать слез. Она стояла у большого окна, ее глаза блестели во мраке. Покровитель, основная защита в ее ссылке, переступил порог смерти. Они встретятся теперь только в явм ад-дин, в день неминуемого Судного дня, и она хотела навсегда сохранить в душе его открытую улыбку, запомнить золотистую гриву волос и настоящее мужество во всех поступках. Все в ней протестовало против такой нелепой смерти, но приходилось принять ее как суровое решение Аллаха — того, кто ведет людей по жизненной пустыне. Ей вспомнился афоризм одного из ее любимых поэтов Абд аль-Кадера: «Смерть — сон без сновидений, она подобна черному верблюду, который становится на колени перед каждым домом, даже перед тем, где никто не собирался умирать».
С грустью думая, что те, кого особенно любит Всемилостивый, обычно и умирают молодыми; в слезах, дрожащими руками она держала письмо от гранадских правителей, подписанное великим визиром Абд аль-Барром и ее двоюродным братом султаном Юсуфом, копию того, что было адресовано новому королю дону Педро. В нем предлагалось соблюдать соглашения, подписанные его отцом, в частности, до лета вернуть трех гранадских заложников. Ее то и дело охватывало отчаяние, потому что было известно, насколько непрочны всякие договоры между враждующими государствами.
Вдохнув настойку амбры, она уняла свои рыдания и утерла слезы. Затем, склонив голову, подняла руки в мольбе, адресованной золотым куполам храма альмоадов, ныне христианского кафедрального собора. Они поблескивали, словно ртуть, в вечерних сумерках и тянулись золочеными шпилями к облакам. По ее вере, Аллах находился где-то там, в высших сферах, а созданные им человеческие существа — в низших; закрыв глаза цвета морской волны, она стала с чувством читать строки из суры Каф: «И придет опьянение смерти по истине: вот от чего ты уклонялся! И возгласили в трубу: это — день обещанный!», «Входите туда с миром, это — день вечности», «Поистине, Мы живим и умерщвляем, и к Нам — возвращение!»[108].
Несмотря на серьезность положения, она вздохнула и перенеслась мыслями к Яго. Если ей наконец удастся покинуть Севилью, ноющее сердце так и останется здесь в сетях тоски по лекарю с доверчивыми глазами, навсегда завладевшему ее чувствами. Как ей тогда вынести свое одиночество и отчаяние?
— Король умер, да здравствует король! — слышалось вдалеке как стон.
На небесном своде замерцали звезды одной из самых драматических ночей, проведенных ею на земле почитателей крестного мученика. Она знала и злокозненную натуру доньи Марии, и стойкость доньи Элеоноры, возлюбленной покойного государя, оказавшейся теперь в положении «отчаявшейся волчицы перед гиеной в короне». Совсем скоро, она это чувствовала, мир на здешних землях не будет стоить ни дирхама, потому что семя раздора уже взошло. А ей самой придется доиграть эту партию и незамедлительно возвратиться в прекрасную любимую Гранаду, хотя бы это и стоило жизни. И потом, она все-таки не хотела делать это в одиночку, в ее планах на будущее Яго Фортун занимал особое место.