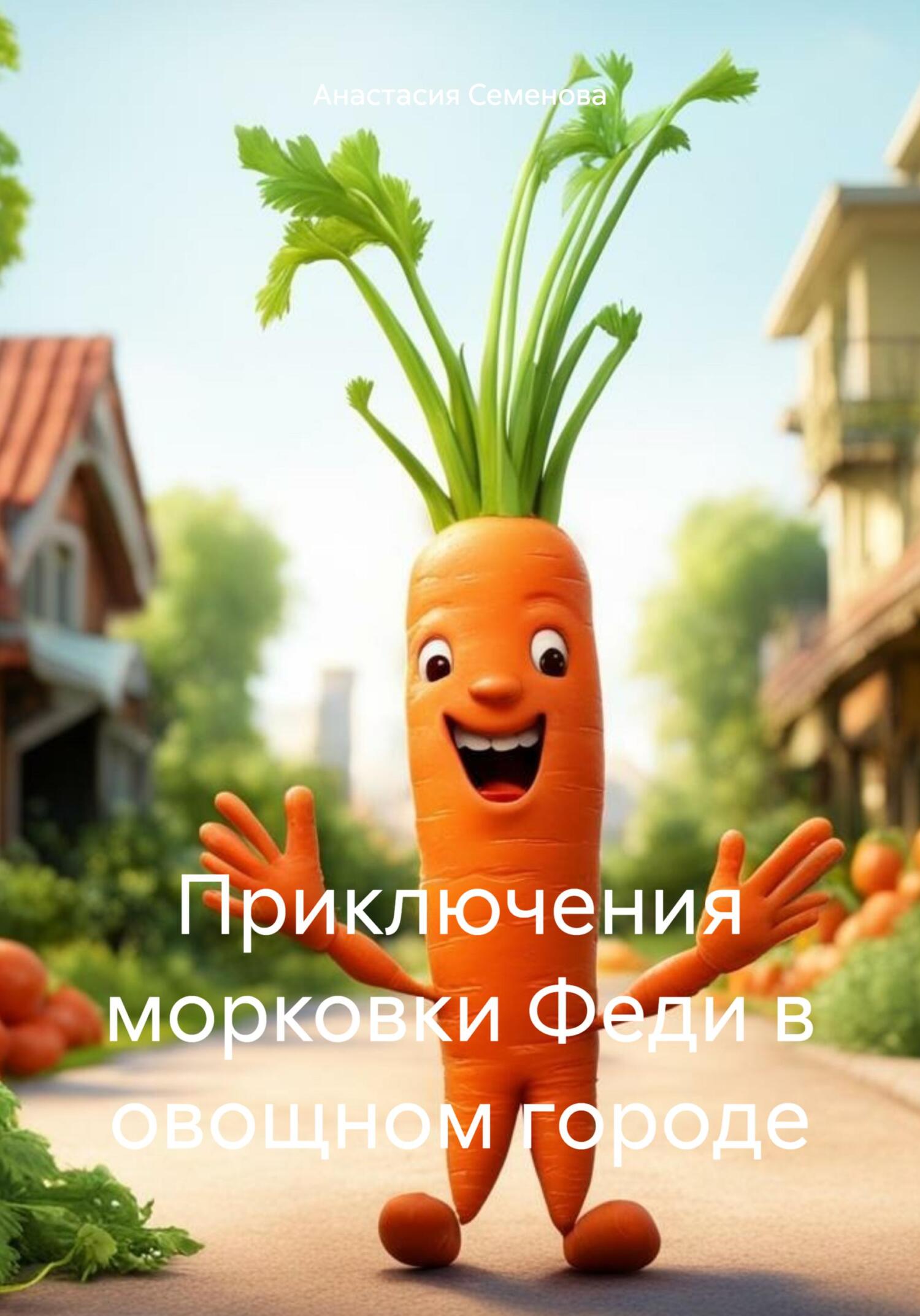колес, конским ржанием.
Воробей сполз с телеги и пошел к костру, над которым грел и потирал руки дядя Маркел.
Вскоре вся пушкарская артель дяди Маркела была у костра. Воробей и Сенька хлопотали здесь больше всех: они и дрова подкладывали, и огонь раздували, и воду кипятили, и толокно в котел сыпали.
Дядя Маркел был, видимо, не совсем в духе. У него поламывали кости и ныли старые раны, которых было немало на груди у него, на спине, на руках и ногах. Дядя Маркел участвовал в Ливонской войне, еще при Иване Грозном; а потом кого только не было у дяди Маркела за долгий пушкарский век: поляки, шведы, крымцы, литва… Повсюду поспевал пушкарь Маркел Колобок и едва ли не отовсюду уносил с собой на память шрам ли, дырку либо просто царапину.
Сидя теперь у костра, дядя Маркел молча совал в свой беззубый рот деревянную ложку с горячим толокном и не заводил больше речи о собаке Ходкевиче. Но Ходкевич сам напомнил о себе.
Подъехал Афоня верхом на своем пегом мерине и сообщил, что шляхта из войск Ходкевича пролезла на рассвете к Донскому монастырю. Видно, норовит подобраться к своим в Кремле, на этот раз со стороны Замоскворечья. Потому указано пушкарям становиться со своими пушками и «ступками» за Москвой-рекой.
— Станем за рекой, — сказал дядя Маркел, оживившись. — И «ступки» перетащим.
Он вытер кулаком усы, на которых налипли комочки толокна, и расправил отсыревшую за ночь бороду.
— Тебя, Афоня, сегодня к набольшему воеводе на пироги звали! — выпалил он вдруг.
— Меня? — удивился Афоня.
— Ясно — тебя, не меня. Меня, Афоня, звать не станут. Говорят — сиволапый, копченый, пороховым дымом провонял.
— Ничего о тебе не говорят, Маркел Колобок, — возразил Афоня. — На тебя набольший-то и не взглянет.
— Вот-вот! И я тоже так разумею: не взглянет, не позовет… Больно я шершавый, и борода, мол, пыльная. А ты эвон какой чистюлька! Шапка у тебя, Афоня, с заломом, и перышко на шапке… Вестовой гонец… Вестовой гонец головного полка… Скачешь то к набольшему, то от набольшего. Чай, и тебе сегодня от стола у набольшего кусок пирога перепадет.
— Не перепадало еще, — буркнул Афоня, не понимая, к чему дядя Маркел клонит свою замысловатую речь.
Но дядя Маркел, не обратив внимания на Афонины слова, продолжал:
— А как станут, Афонюшка, в шатре у набольшего пшеничный пирог рушить, хвалить и кушать, так ты скажи всем большим и набольшим: кланяется, мол, дядя Маркел, тот, что пшеничных пирогов отродясь не ел.
— Только к тому твоя речь? — И Афоня пожал плечами.
— Нет, Афоня, не только к тому. Вчера счетом сколько шляхты уложили?
— За ночным временем, Маркел, не сосчитано еще. Ужо нынче считать будут.
— Так вот, Афоня, ты, как пирога поешь, не икай, чинно себя держи. Молви только набольшему воеводе: оказал бы он ворогам честь — набил их столько, что и не счесть. Просил, мол, Маркел, что пирогов не ел.
Афоня с седла глянул пристально на дядю Маркела и сказал:
— Чудной ты, Колобок! Крутишься, вертишься… Эвон чего накрутил! Пироги, вороги… Тебе бы в пору в скоморохи писаться. А ты, Колобок…
— «Колобок, Колобок»… — перебил Афоню дядя Маркел. — Вот он, мой колобок! — И дядя Маркел погладил рукой круглое, как колобок, чугунное ядро, откатившееся к костру. — Я с этими колобками из Москвы ушел, свет прошел и опять сюда пришел. Потому и зовусь Колобком.
Афоня, заметив, что дядю Маркела не переговоришь, тронул коня и отъехал прочь. А дядя Маркел крикнул укладывать пушкарский снаряд на подводы.
По плавучему мосту часть артиллерии Пожарского переправилась через Москву-реку и присоединилась к казакам Трубецкого, стоявшим в острожке на Пятницкой, у Климентовской церкви. Но боя в этот день не было; он возобновился только на следующий день с утра.
На улице, под стенами острожка, гарцевали казаки. У ворот стояли со своими длинными пищалями стрельцы. Опять Сенька и Воробей калили ядра на жаровне. И снова, орудуя зажженным фитилем, пускал в ход свои неисчислимые прибаутки дядя Маркел. Однако шляхта теперь совсем остервенела. Ходкевич решил прорваться к Кремлю любой ценой.
Польская конница надвигалась к Климентовскому острожку по Ордынке, от Серпуховских ворот. Когда шляхта стала подходить к Екатерининской церкви, среди казаков в Климентовском острожке началась паника. Беспорядочными толпами выбегали они из острожка, неслись словно вперегонки к Москве-реке и бросались через нее вплавь. В острожек прискакал Афоня-гонец с приказом от набольшего воеводы — ратникам, стрельцам и пушкарям тоже уходить из брошенного казаками острожка, уходить немедля.
Пошла сумятица; все повалило к воротам… Но пушкари, увлеченные своим делом, продолжали палить.
Афоня примчался во второй раз и гаркнул в раскрытые ворота:
— Отступ!
А пушкари всё палили.
Только на третий раз, когда Афоня ворвался в острожек с воплем, что ослушники будут повешены, пальба прекратилась.
Заскрипели подводы… Впрочем, одна «ступка» еще продолжала вести огонь.
В дальнем углу острожка дядя Маркел не видел Афони и не слышал его воплей. Оглянулся Маркел: батюшки! В острожке пусто — ни казаков, ни ратников, ни пушкарей. Только лошади дяди Маркела, привязанные к грядкам телег, жуют сено, подергивая головами. А за стеной острожка голосят фанфары, совсем близко… голосят не на русский распев, а так, как приходилось слышать дяде Маркелу в Ливонии и в Литве.
Дядя Маркел, не мешкая, сунул бороду в прорубленную в стене острожка бойницу, и в глазах у него засверкало: серебряные фанфары неприятеля, его цветные знамена, на стальных шлемах страусовые перья — белые, голубые, красные… А за фанфарами и шлемами, за знаменами и лесом копий вьется по Ордынской дороге обоз. Неисчислимо возов! На возах — мешки, тюки, ящики, бочонки… Это провиант для польского войска, для шляхты, помиравшей голодом, запертой в Кремле.
Фанфары и знамена приближались. Через пять минут они будут на Пятницкой, у Климентовской церкви. Не знавал дядя Маркел плена — ни польского, ни крымского, — а тут на-поди! Рейтары пана Ходкевича спустят с дяди Маркела шкуру — только пыль от бороды пойдет.
— Запрягай! — крикнул дядя Маркел, и голос у него захлестнуло. — Стой! — прохрипел он. — Поздно… Бросай всё, садись на коней, скачи к мосту.
Дядя Маркел отвязал первую подвернувшуюся лошадь, вскочил на нее и устремился в раскрытые настежь ворота острожка. Вслед за ним вырвались из острожка верхом на лошадях и его пушкари.
Сенька сидел на крупе гнедой кобылы, крепко обхватив живот пушкаря, того, что подносил к мортире каленые ядра с жаровни. Позади другого пушкаря устроился верхом на сером коне Воробей.
Вся ватага