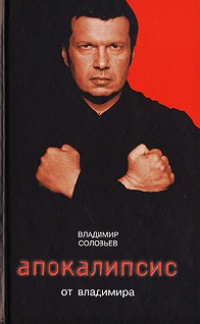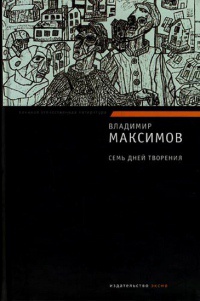— Высоко же ты взлетел.
— Эта работа меня доконала, при капитализме не хватает или денег, или времени. Ну, деньгами меня бог не обидел, но зато весь день приходится крутиться-вертеться и пришпоривать лентяев, — чтобы продемонстрировать, как он спешит, Боян раскурил толстую «долгоиграющую» сигару. У него не было времени даже на то, чтобы меня унизить. — Что тебя ко мне привело?
— Старая дружба.
Он глянул так, будто я сморозил редкую глупость, от выпивки глаза у него остекленели, лицо покрылось красными и синими прожилками. Чтобы напомнить, что стрелки у часов вертятся, Брижит Бардо принесла мне кофе. Они с Бояном переглянулись, она одернула юбчонку — я заметил чулки с черными подвязками — и многообещающе улыбнулись друг другу, словно были совсем одни. Я старался говорить предельно сжато, чтобы он хоть что-нибудь усвоил. Сказал, что как бы выспренно это ни звучало, но у нашего национального капитала и нашей интеллигенции — общие интересы, что скоро на болгарский рынок придут крупные международные фирмы (тогда я еще в это верил) и что в ситуации сильной конкуренции нашим родным капиталистам понадобятся поддержка и авторитет нашей обнищавшей интеллигенции. Я предложил Тилеву, чтобы группа «Г-13» учредила по французскому образцу Академию искусств, избрала в академики человек двадцать наших видных интеллектуалов и кинула им с барского плеча какие-нибудь невеликие деньги. «Вокруг этого элитного кружка, — подчеркнул я, — будет формироваться будущее болгарской культуры, а все заслуги по праву припишут тебе».
— Уж не решил ли ты сам заделаться академиком, Марти? — он был так пьян, что его ирония прозвучала издевкой.
— Нет, я пришел, чтобы продаться, — ответил я, испытывая омерзение, — я напишу проект и реализую его, а ты дашь мне за это денег. Ровно столько, сколько нужно на издание одной книги. Я сейчас безработный.
Он снял ноги с журнального столика, сделал большой глоток, пыхнул сигарой и выдохнул дым в мою сторону, не изменившись в лице, словно мы до сих пор молчали.
— Помнишь, как мы возили актрисулек на твою дачу?
— Я сейчас безработный, — повторил я.
— Я заказал столик на сегодня в одном кабаке в «Драгалевцах» — страшная штука, несколько девок демонстрируют чудеса у шеста. Хочешь, угощу тебя какой-нибудь проказливой блондинкой?
— Если помнишь, мне нравятся брюнетки, но не могу — меня ждет Вероника.
— Так ты сделался подкаблучником? В жизни бы не поверил! С каких это пор ты стал бояться жены?
— С тех пор как стал безработным, — в третий раз подчеркнул я.
Теперь в кабинет зашла первая секретарша и позвала его. На ней была блузка с пышным жабо, водопадом стекающим вниз — кружева не скрывали, а подчеркивали ее пышную грудь без лифчика, они также многообещающе улыбнулись друг другу, не замечая моего присутствия. Боян вышел, я остался в одиночестве, настолько одинок, что вспомнил строки из стихотворения Лэнгстона Хьюза: «один, как пустая бутылка на столике без человека…» Но передо мной стояла полная бутылка, я налил себе полный стакан, бросил щипчиками несколько кубиков льда и выпил до дна. Налил снова — на улице уже совсем стемнело, я встал и зажег люстру. Прошло полчаса, чтобы не напиться, я стал расхаживать по кабинету. На письменном столе, наряду с изящными миниатюрными безделушками, стояло несколько фотографий в серебряных рамках: дочери Бояна на фоне огромной вычурной виллы в аристократическом квартале, его жена в бассейне и в сауне, сам Боян с газонокосилкой… Но все снимки были сделаны таким образом, что на них не видно было улыбок — надо всем доминировала лишь нуворишская ухмылка огромного дома. «Боян Тилев, — сказал я себе, — и в самом деле, стоит написать о тебе роман!»
Я почувствовал себя униженным. Меня охватила ярость, в сознании всплыл безрадостный вопрос Вероники: «почему?» Кто и почему бессовестно раздал деньги таким кретинам, как мой однокурсник? Я был готов к тому, что он изменился, что заважничал, но ждал совершенно другого: представлял себе его обремененным грузом ответственности за собственное богатство и за ту свободу, которую ему это богатство подарило. А он остался выпендрежником и тряпкой. «Я тоже тряпка, — мстительно парировал я самого себя, — но, по крайней мере, тряпка без выпендрежа». Почему, когда их осыпали этими немереными деньгами, они не вложили их во что-нибудь разумное и полезное, не стали банкирами, чтобы и их сыновья были банкирами, не выкупили рухнувшие госпредприятия, чтобы их модернизировать и оживить, не стали предпринимателями, чтобы и дети их были предпринимателями, не создали новые рабочие места никому, кроме крупье и проституток? Почему эти гады зарыли огромные, упавшие с неба деньги в квартиры, дома с медными крышами, в наборные паркеты и венецианский мрамор, в «мерсы» и костюмы от Версаче, в дорогостоящие тусовки и коктейли? Кто и зачем обрушил эту лавину, кто и почему все это позволил?
Я харкнул на письменный стол красного дерева, но, очнувшись, испуганно огляделся по сторонам и тут же стер свой гнев рукавом единственного костюма. Что-то неподвластное разуму, сам воздух этого выпендрежного кабинета, лишали меня сил к сопротивлению. «Неудачник, — сказал я себе, увидев свое отражение в зеркале. И ткнул в него пальцем. — Ты неудачник!» Меня охватило полное смятение, полная беспомощность. Я хлопнул второй стакан виски. Наконец, вернулся Боян.
— О-о, Марти… — протянул он, словно спрашивая: «Ты еще здесь?» — напиши мне свою концепцию и приноси, — а потом, передав меня в объятия силиконовой улыбки Брижит Бардо, добавил: — Нежная моя, для господина Сестримского я всегда на месте!
Похоже, эти слова были тайным паролем и означали «эту плесень ко мне не допускать ни под каким видом!», потому что охрана больше на пушечный выстрел не подпустила меня к «святая святых», а секретарша ни разу не соединила с господином Тилевым по телефону.
* * *
Вероника была неправа, я не пил и боролся, как мог. Чтобы хоть что-нибудь заработать, два месяца писал некрологи. «Они должны звучать патетически, мы, сочувствуя горю, будем стремиться возвысить горечь утраты, не так ли?» — сказал мне шеф похоронного бюро «Харон», смягчив скорбную улыбку сиянием золотого зуба. Кормиться за счет смерти оказалось делом скучным, недостойным, а главное — неприбыльным, за прочувствованные эпитафии мне платили гроши. Потом один благодарный бывший ученик мамы взял меня в свое рекламное агентство, но то ли из-за приобретенных в «Хароне» навыков, то ли из-за того, что я начал ненавидеть себя, все предложенные мною рекламы вызывали не желание обзавестись рекламируемым товаром, а исключительно скорбь. Когда в исторический апрельский день я принес ему новые слоганы: «Только стиральный порошок „Тайд“ очистит вашу жизнь… Мы вторые, но первых нет» и «Работа делает всех свободными. Водка „Селект“ — работа для всех», он сначала решил, что я над ним издеваюсь, а потом не знал, куда девать глаза от смущения.
— Господин Сестримски, я уважаю вас как писателя, — сказал он виновато, — но эта работа не для вас.
Пять месяцев я околачивался на бирже труда, пока измученная жарой, иссохшая и постоянно кашляющая чиновница (подозреваю, больная туберкулезом) ни сжалилась надо мной и ни направила в фирму со звучным названием «Конкуренция и процветание». Интервью длилось два часа, со мной беседовали по-английски и по-русски, я писал под диктовку на компьютере, и наконец, меня выбрали, отказав профессору-географу и бывшей учительнице математики. Меня предупредили, что платить мне будут по минимуму без социального обеспечения. Я покорно согласился.