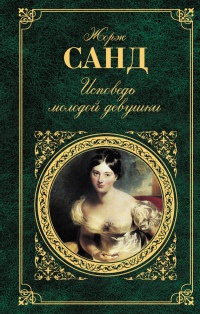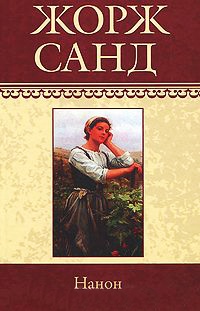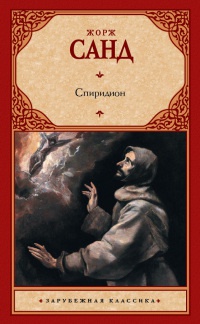Но надо было не плакать, а спасаться бегством. Мне очень хотелось найти маленького еврея, утверждавшего, что он знает моих родителей или таинственных друзей, которые то ли сами наблюдали за моей жизнью, то ли поручили это ему. Я забыл сказать, что человек этот переехал в Неаполь, и я встречал его там несколько раз; однако возвращаться в город казалось мне слишком опасным, писать же еврею означало рисковать, что меня обнаружат. От этой мысли я отказался.
Не стану рассказывать во всех подробностях о приключениях, которые сопутствовали моему бегству из окрестностей Неаполя. Мне удалось обменять разодранную в клочья одежду на менее подозрительные лохмотья. Я с трудом добывал себе пропитание, местные крестьяне знали, что власти разыскивают подлого убийцу знатного вельможи, и относились с недоверием к каждому нищему незнакомцу. Не будь женщин, которые всюду оказываются храбрее и человечнее нас, мужчин, я давно бы умер от голода и лихорадки. Рана моя вынуждала меня забираться в самые глухие уголки, и вот, лишенный ухода за собой, я не раз думал, что останусь там навсегда, ибо у меня не было сил подняться и идти дальше. И вы не поверите, господин Гёфле, в этом отчаянном положении я испытывал по временам приливы радости, словно, вопреки всему, я наслаждался зарею возвращенной мне свободы! Свежий воздух, ходьба, отсутствие любого принуждения, просторы полей с беспредельными горизонтами, которых я теперь надеялся достичь, все, даже мое грубое ложе на камне, напоминало мне планы и надежды тех времен, когда я жил настоящей жизнью.
Наконец без всяких происшествий я достиг границы Папской области, и, коль скоро я не шел по Римской дороге, у меня были все основания надеяться, что, свернув в горах немного в сторону, я не буду замечен и выслежен ни одним шпионом. Я остановился в деревне, чтобы продать мой товар: надо вам сказать, что просить подаяние мне было отвратительно, отказ же приводил меня в такое бешенство, что мне хотелось отколотить людей, которые были со мной грубы, и я вздумал начать торговать…
— Торговать? Чем же? — спросил Гёфле. — У вас ведь не было ни гроша.
— Разумеется, но когда я бежал, при мне был перочинный ножик: он-то и обеспечил мне заработок. Хоть я никогда раньше и не занимался ваянием, я достаточно хорошо знал рисунок и однажды, найдя на дороге камень, очень белый и очень мягкий, решил подобрать кусков десять этого камня, которые тут же обтесал и потом в минуты отдыха высекал из них фигурки мадонн и ангелочков величиною с палец. Этот камень, или, вернее, мел, был очень легок, и я мог носить с собой полсотни таких фигурок и продавать их на фермах или в крестьянских домах по пять-шесть байокко[48]за штуку. Больше они и не стоили, а на эти деньги я мог купить себе хлеба.
Так я промышлял два дня, а на третий в селе был базарный день, и я решил, что смогу спокойно сбыть весь свой товар. Когда же я увидел, что покупателей у меня мало из-за конкуренции одного пьемонтца, у которого было много гипсовых статуэток, я решил усесться на землю и, на глазах обступившего меня народа, стал высекать перочинным ножом свои фигурки. Успех был огромный. Быстрота, с которой я это делал, а возможно, и наивное простодушие фигурок совершенно очаровали зрителей, и эти славные люди, главным образом женщины и дети, стали бурно выражать свое изумление и удовольствие, пьемонтец же, видя успех своего соперника, пришел в ярость. Несколько раз он грубо задирал меня, но я, однако, не терял терпения. Я видел, что он ищет предлога поссориться со мной и заставить меня уйти, и удовлетворялся тем, что смеялся над ним, предлагая, чтобы он делал статуэтки сам и показал всем присутствующим свои способности; публика меня горячо поддержала. В Италии даже самый простой народ любит все, что дышит искусством. Мой конкурент был посрамлен и прозван тупицей, меня же все шумно провозгласили настоящим художником.
Чтобы отомстить мне, этот негодяй пустился на подлость. Он нарочно уронил на землю несколько своих топорных изделий и поднял страшный крик, призывая полицейских, которые ходили среди толпы. Едва только они обратили на него внимание, как он объявил, что я возбудил против него народ, что его нарочно толкнули и нанесли большой ущерб его хрупкому товару; что он человек честный, исправно платит за свое место и всем знаком, я же проходимец, бродяга, а может быть, кто знает, еще и похуже того — подлый убийца кардинала. Именно так рассказывали здесь о том, что произошло в Неаполе, и пьемонтец решил вызвать враждебные чувства ко мне у публики и полицейских. Народ стал на мою сторону; многочисленные свидетели заверяли, что ни я, ни они ни в чем не повинны. Никто не толкал и даже вообще не касался товара пьемонтца. Окружавшая меня кучка людей спокойно встретила полицейских и расступилась, чтобы дать мне убежать.
Но если среди народа нашлись храбрые люди, то нашлись также подлецы и трусы, которые, не говоря ни слова, указали на меня пальцем, как раз когда я бежал по узенькой извилистой улочке. Да мной погнались, я успел вырваться вперед, но я не знал этих мест и, не сумев выбраться из села, очутился на другой небольшой площади, где в это время внимание многочисленной публики было приковано к балагану с театром марионеток. Я едва успел проскользнуть в толпу, как увидел полицейских, которые обходили зрителей, пристально в них вглядываясь. Я постарался наклониться возможно ниже и притворился, что с большим интересом слежу за похождениями Пульчинеллы[49], чтобы не обратить на себя внимание теснившихся со всех сторон людей, как вдруг мой крайне возбужденный мозг осенила блестящая мысль. Движимый сознанием опасности, которая мне грозит, я проталкиваюсь все дальше вперед в плотной и праздной толпе, в которую силится пробраться полиция. Так я добираюсь до занавеса балагана, все больше наклоняюсь и вдруг ныряю под этот занавес, как лиса в нору, и оказываюсь зажатым между ног operante, или recitante, иначе говоря — актера, приводящего в движение марионеток или говорящего за них. Вы знаете, господин Гёфле, что такое театр марионеток?
— А как же! На днях я видел в Стокгольме театр Христиана Вальдо.
— Вы его видели… снаружи?
— Да, только снаружи, но я представляю себе и внутреннее его устройство, хоть оно и показалось мне довольно сложным.
— Это театр двух operanti, или четырех рук, иначе говоря — с четырьмя персонажами на сцене, что позволяет выводить довольно много burattini.
— А что такое burattini?
— Это марионетки, классические, примитивные и самые лучшие. Это не fantoccio — кукла, появляющаяся во всех пьесах и подвешенная за ниточки к потолку, которая ходит по земле, не касаясь ее ногами, и поднимает невообразимый и ненужный шум. Это более искусная и совершенная разновидность марионетки с гибкими руками и ногами, со множеством механических приспособлений для того, чтобы делать более или менее естественные жесты или принимать довольно изящные позы. Я не сомневаюсь, что есть еще и приспособления, с помощью которых можно добиться полного сходства с жизнью, но, углубляясь в этот вопрос, я подумал: для чего же все это делать и какое преимущество может извлечь искусство из театра автоматов? Чем они станут крупнее и чем больше будут походить на людей, тем грустнее и даже ужаснее будет выглядеть спектакль, исполненный этими псевдоактерами. А каково ваше мнение?