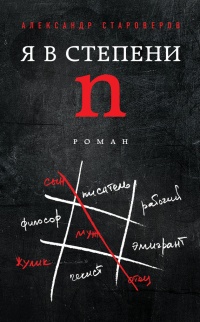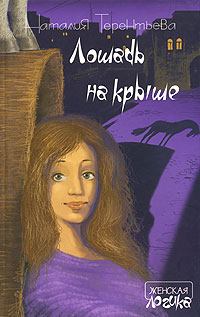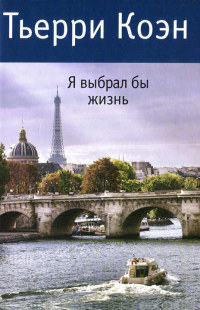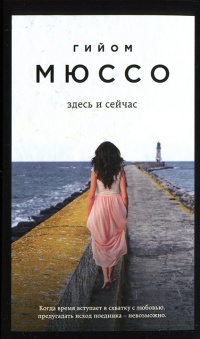на фабрике: товарки подметили, и пошли разговоры.
Смеются над нею, пошучивают на ее счет.
— Молодо-глупо, — говорит кто-то, — сегодня убегает, завтра сама за ним побежит.
"Не доживете вы до этого", — думает Ривке.
— Она еще язык высунет, как овца за солью…
Ривке закусывает губу и молчит.
— И красавец же! — говорят. — Глаза, волосы!.. А нос, точно точеный! Из жилетного кармана свисает золотая цепочка чуть ли не с десятью золотыми брелоками!
Ривке это льстит.
— Может, томпак? сомневается одна.
"Еще бы!" — думает Ривке.
Другие отвечают:
— Что ты, что ты! Сейчас видно, что богатых родителей…
Тут снова пошучивают:
— Не хочется тебе романа — что ж, успеешь! Но будь умна, говори ласковые слова, бери небольшие подарки, обедом пусть угостит, конфетами… билеты в театр…
Кто-то громко смеется:
— Конечно! Бери нахрапом, как норовистая лошадь… Но в руки даваться — ни-ни!… Чтоб им пусто было!..
Наконец, раздается голос старшей работницы, у которой длинное костлявое лицо, острый подбородок и косые зеленоватые глаза.
Ривке плотнее сжимает губы, еще ниже опускает пылающую голову, и две горячие слезы падают ей на руки, занятые у машины.
Вот это и не дает ей спать.
Нет! Она ничего, ничего не возьмет!
Билета в театр — подавно нет!
Однажды она поздно задержалась на фабрике: была спешная работа. Мать прибежала ни жива, ни мертва. Когда она увидела свою дочь, глаза у нее засияли, и из них брызнули слезы. В коридоре фабричного здания у лестницы стоял дедушка и ломал руки.
— Слава богу! — бормотал он, — слава богу!
— Нет, она этого не сделает!..
Соре тоже стала собираться в город. Она ставит для старика стакан молока на столик, пододвигает к нему колыбельку с Янкеле. Ей еще нужно позаботиться о кое-каких мелочах по хозяйству… Однако она успевает еще и пожаловаться старику на плохие времена.
— Вы ведь слышали, тесть! Должна быть помолвка… последний срок… телеграфируют, что все закупили… а она, невеста, устраивает скандалы. Не хочет! Не хочет жениха из провинции… у нее, говорит она, есть варшавянин, варшавский "франтик"…
Ханэ, лежавшая все время с открытыми глазами и наблюдавшая, как с потолка одна за другой срывались мухи и разлетались во все стороны, услышав слова матери, сразу садится, ее всегда матовые глаза начинают вдруг блестеть. Она, видимо, прислушивается… Навостряет уши и открывает рот, точно глотает слсза матери.
Мать, однако, уверена, что заработок тут будет.
"Помолвка, с божьей помощью, состоится. Пимсенгольц еще постоит за себя… "Расплывшаяся Пимсенгольц" тоже молчать не станет… Ну, и коготки же у нее!"
— Прежде всего, — сказала мне их кухарка, — сделали обыск, нашли письма какого-то франтика-прощалыги и все сожгли. Потом уж ей влетело, здорово влетело! За волосы оттаскали!
Ханэ чувствует, что глаза у нее становятся влажными, лицо краснеет, она полна сострадания.
Она с плачем падает на подушку.
Соре пугается, старик подбегает к ней.
— Что такое, Ханэ? Что с тобой?
— Жалко, мама, жалко…
— Кого, дочь моя? Кого? — удивляется Соре, забывая обо всем.
— Н-н-невесту… она такая… добрая… сердечная… дает мне постоянно деньги… те деньги, что я тебе отдаю… она меня ласкает… иногда целует… Она хочет учить меня писать.
— Еще этого недоставало! — говорит Соре сердито. — Bpaгам моим на погибель!.. И тебе она хочет голову вскружить, чтоб и ты не слушалась матери?..
Ханэ отвечает с плачем:
— Нет, мамочка, нет! Не бойся только! Я тебя всегда буду слушаться! Какого бы жениха ты мне ни дала.
Раздается звонкий смех.
То Ривке смеется над наивностью сестры.
— Злюка! — кричит Соре, — ребенок болен, опасно болен… смеяться бы тебе, знаешь, как?..
— Не проклинай, Соре, — успокаивает ее старик, — ведь и она еще ребенок.
Соре уходит, раздосадованная, и, оставляя комнату, кричит Ривке:
— Встань, франтиха! Дай Ханэ чаю, вымети комнату…
Старик Менаше выпил свое молоко и уселся у окошка.
Через оконце виднеются лишь длинные, узкие тени, которые от ног прохожих падают на маленькие стекла…
Чем ближе к полудню, тем быстрее меняются тени и тем печальнее становится старик. Люди спешат, бегут, торгуют, работают, лишь он один (так кажется ему) ни для чего уж не годится.
Он берется за псалмы.
Дрожащим голосом прочитывает он стих по-древнееврейски, стих в переводе и некрепкою ногою качает колыбельку Янкеле.
Ривке, полуодетая, сидит на кровати Ханэ: обе пьют чай. Рядом с Ривке, пышущей здоровьем и жизнью, Ханэ кажется еще более болезненной, еще более бледной и маленькой, еще более ребенком.
У них идет интимный разговор.
— Я не скажу, Ханэ, расскажи!
— Клянись!
— Клянусь….
— Чем?
— Чем хочешь.
Ханэ морщит лоб и придумывает:
— Здоровьем Янкеле!
— Здоровьем Янкеле, — повторяет за нею Ривке.
— В чем?
— В том, что сохраню в тайне все, что ты мне доверишь…
Ханэ задумывается.
— Сиди, — говорит она, — я не могу… я лучше лягу и буду смотреть в потолок, а то я забываю, путаюсь… Когда я лежу и смотрю вверх, я все вижу перед собой… мне все представляется ясно…
— Ну, ложись, Ханэ…
— Ты также. Приложись ухом к моим губам, это — страшная тайна! Я не хочу, чтобы дедушка слышал!
И Ханэ морщит лоб еще сильнее. Она дышит тяжело, точно на ней лежит большая тяжесть. Она откидывается на подушку.
Сильно заинтересованная Ривке ставит быстро стаканы на стол и ложится возле Ханэ.
Старик прерывает чтение псалмов и, обернувшись к кровати, говорит:
— Не лучше ли, Ривке, прибрать?
— Сейчас, сейчас, дедушка, — отвечает Ривке, — Ханэ хочет мне что-то рассказать.
Старик с печальной улыбкой качает головой и опять начинает распевать свои псалмы.
И Ханэ рассказывает, сморщив лоб и широко раскрыв почти неподвижные глаза, которых Ривке несколько пугается.
Ей кажется, что Ханэ рассказывает не по памяти, а видит что-то перед собой и говорит то, что видит. И голос ее такой глубокий, и дыхание такое горячее…
Ханэ рассказывает:
— Кухарка куда-то вышла… Я осталась в кухне одна… жду мамы… она должна прийти за мной.
— Ривке, — перебивает она себя вдруг, — когда мы ели пшено с медом?
— Вчера, — отвечает Ривке недовольным голосом.
— Так это было-таки вчера… да, вчера… Сижу себе так и пью чай. Кухарка дает мне всегда чай… когда бы ни пришла, она мне дает чай… А там пить чай так приятно… с серебряной ложечкой… блестит… От чая становится тепло во всем теле… И сахар, слышишь ты, внакладку. Я хочу пить вприкуску, остаток домой отнести, кухарка не дает сахар, говорит она, тебе полезен… и следит, чтобы я положила все три куска.
Кухарка получает там целый фунт сахару… целый фунт в неделю! Кроме того, она берет еще