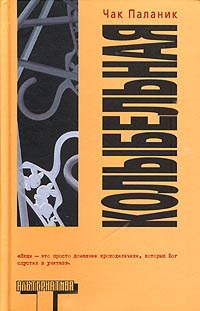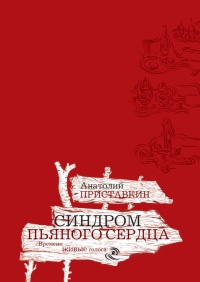У входа Джордана замедляется. Она идет, как на похоронах. Теперь мне приходится останавливаться через каждые три шага.
Медуллобластома.
— Вторая операция в воскресенье.
— Твой папа сказал.
Вокруг какие-то высокие тонкие растения, стебли которых усеяны бледно-голубыми цветами.
Медуллобластома.
— Ты можешь ее навестить?
Она берет меня за руку.
Медуллобластома.
Я думаю о том, что уже произвел положительное впечатление на родителей Джорданы и было бы глупо его портить. Лучше уж я буду как тот игрок в «Поле чудес», который игнорирует крики зрителей «Суперигра! Суперигра!» и уносит домой двести фунтов и стиральную машину.
Медуллобластома.
— Брат будет там, но тебе необязательно с ним разговаривать.
— А что если я захочу с ним поговорить?
— Ладно, — говорит она.
Медуллобластома.
— В воскресенье?
— Нет, в воскресенье операция, а мы пойдем к ней в субботу.
Я останавливаюсь.
Медуллобластома.
Киваю.
— А чем ты вообще занимался?
— Был очень занят.
Медуллобластома.
— Готовился к экзамену?
— Ну, вроде того, да.
— Оливер, пожалуйста, я не могу…
Медул…
Она останавливается.
— Что происходит? — спрашивает она.
Я оборачиваюсь и смотрю ей в глаза. У нее слиплись реснички, как лапки у раздавленного паука.
— Моя мама может умереть…
Эти слова слишком сильно действуют на нее. На асфальте темные пятна — там, куда упали ее слезы.
— Я просто не могу… столько всего… что происходит?
Проблемы — как козырные карты. Мне выпали хорошие козыри: у моей матери интрижка на стороне. Но Джордане повезло больше: у ее матери опухоль.
Мне кажется, если произнести вслух — у моей матери интрижка, — это станет более реальным. Поэтому говорю совсем другое:
— Векторы, квадратные уравнения и респираторная система.
— Да пошел ты, — выдыхает она.
— Это все ненастоящее, — продолжаю я.
— Заткнись, — огрызается она.
Она совсем раскисла.
— На самом деле их не существует, — говорю я.
— Заткнись.
— Это обман.
— Заткнись. Склонив голову, она подходит ближе и кладет лоб мне на плечо. — Заткнись, — повторяет она, вытирая лицо о мои ключицы и прижимаясь к моей шее.
Я обнимаю Джордану. Ее руки остаются висеть. Я притягиваю ее к себе, но она отстраняется. Думаю, комплимент в данной ситуации поможет делу.
— У тебя красивая кожа. Сегодня.
Она не говорит «заткнись».
— Я почитал кое-что. Думаю, у тебя могла быть аллергия на Фреда, — замечаю я.
— Я сижу на маминой диете, наверное, поэтому.
— Ты стала привлекательнее.
— Мы едим китайскую кухню — там много имбиря.
— Курицу в лимонном соусе?
— Иногда.
Я беру ее за руку и кладу ее ладонь на квадратную выпуклость в заднем кармане штанов.
— Я тебе спички купил.
Она достает коробок. Снова обнимаю ее. Она кладет подбородок мне на плечо. Ее руки обвивают мою талию. Я слышу чиркающий звук и чувствую слабое тепло у шеи сзади.
И тут Джордана говорит такое, что я понимаю: слишком поздно, ее уже не спасти.
— Я заметила, что, когда зажигаешь спичку, пламя такой же формы, как падающая слеза.
Она стала сентиментальной, превратилась в сгусток соплей. Я наблюдал за тем, что происходит, и не сделал ничего, чтобы остановить это. Отныне она будет вести дневник, иногда записывая в него маленькие стишки, покупать подарки любимым учителям, любоваться пейзажем, смотреть новости и покупать суп для бездомных, и она никогда, никогда больше не подпалит волосы на моей ноге.
Юность
— И у тебя будет шанс продемонстрировать всем эти мышцы. — Мама тянется и сжимает папины бицепсы. — Ого, — говорит она, пытаясь притвориться удивленной.
Мы сидим в одном конце обеденного стола: я, папа и мама. Мама зажгла две свечи, и мы едим с квадратных тарелок: запеченная форель с лесными грибами и вареной молодой картошкой с маслом и петрушкой. Мама хочет уговорить папу заняться капоэйрой. Ее голос срывается — она пытается показать нам, как это весело.
— И они занимаются под такую красивую музыку, Ллойд, — она пытается поймать его взгляд.
Папа смотрит в тарелку и вонзает нож в шляпку гриба.
— Тебе должно понравиться: два барабана и еще один парень с однострунной гитарой, — добавляет она.
Звучит ужасно.
— Звучит ужасно, — говорю я.
— Ничего ужасного, Оливер. Твоему папе понравится. Эта музыка гипнотизирует.
Я вспоминаю, что Грэм умеет смотреть в глаза неотрывно, как гипнотизер.
— Грэм записал меня на аттестацию в субботу, — продолжает она.
Зачем она о нем заговорила? Жареный гриб поскрипывает у папы на зубах.
— Буду сдавать на желтый пояс, — не умолкает она. — Вы оба могли бы прийти и посмотреть.
Папа поддевает безголовую форель за позвоночник к осторожно тянет; маленькие косточки отделяются от розового мяса, плавник отходит вместе с кожицей. Папа торжественно кладет его на голубую скатерть.
— Ты будешь драться? — спрашиваю я.
— Играть — мы называем это «игра», — говорит она, все еще глядя на папу в ожидании ответа.
— Почему это игра? — спрашиваю я. Мы разговариваем через папу, который сосредоточенно уткнулся в тарелку. Он вытаскивает изо рта маленькую косточку. Он доест раньше, чем мы.
— Потому что мы не пытаемся нанести друг другу увечья.
— Раз это не борьба, я не хочу смотреть, — соглашаюсь я.
— Представь, что это брейк-данс, — говорит мама, пытаясь помочь мне понять.
Я представляю, как она крутится на голове в мешковатых джинсах и слушает «Сайпресс Хилл». Мне становится нехорошо.
— Но вы же можете ударить друг друга, как бы ненароком? — интересуюсь я, пытаясь найти причину заниматься для папы.
— Да нет, не можем. Но иногда разрешаются удары головой.
Папа жует.
— Просто приходите на аттестацию, ладно?