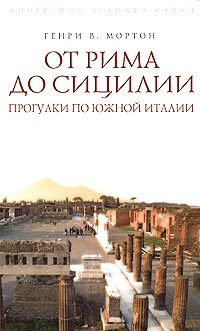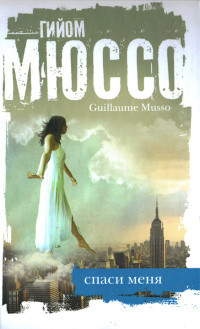– Это хорошие туфли, – сказала Женни, вновь выныривая из-под стола, – но я доканываю любую обувь, из чистой лени. Вы одна дойдете?
– Здесь недалеко.
Женни кивнула.
– Вам стало лучше – после аспирина?
– Боже, – сказала вторая женщина, сползая боком с высокого табурета. – Это явно не для меня. – Ей пришлось на мгновение опереться о бедро Женни. – Вы сейчас потеряете пуговицу… вон ту, самую верхнюю.
– Спасибо, – сказала Женни, когда они уже стояли друг против друга.
– Вы не должны так много курить, – сказала женщина. – А лучше вообще бросить.
Женни еще раз кивнула и смотрела вслед уходящей, пока не хлопнула дверь.
– Ну и? – спросил кельнер, внезапно оказавшийся рядом. – Теперь тебе полегчало? – Он обмахнул тряпкой стойку, поднял пепельницу и опять поставил ее на прежнее место. Женни снова уселась на свой табурет.
– Я так и не понял, зачем все это? Тебе это хоть что-то дало? – Он всем корпусом перегнулся вперед и наклонил голову, чтобы заглянуть ей в лицо. – Эй, Женни, я, кажется, с тобой разговариваю! Она тебе все равно не поверила. Зачем же было разводить дерьмо? – Он поднял глаза, когда она щелчком выбивала из пачки сигарету, и быстро поднес зажигалку.
– Ты надеялся, что я расскажу об этой истории, – сказала Женни и выпустила колечко дыма. – И ты все время стоял за занавеской, чтобы ничего не упустить.
– Совсем рехнулась, – сказал кельнер. – Ты хоть догадалась чем-нибудь ее угостить?
– Знаешь, как это называется, Майки? Я бы это назвала войеризмом. – Женни положила сигарету на край пепельницы, надорвала серый конверт и заглянула внутрь.
– Тебе просто безразлична твоя работа, – сказал кельнер. – Я тебе с самого начала говорил. Тебе на нее плевать.
– Это не моя работа, – сказала она.
– Ты и правда рехнулась, – сказал он, не глядя на нее. Его лицо раскраснелось, лоб и кончик носа блестели. – Либо ты вытягиваешь ее как положено, либо вообще бросаешь. Но тогда это уже не твоя работа, capito?[29]И почему ты уселась именно здесь, у стойки, если не хотела, чтобы я слышал ваш разговор? – Он поставил перед ней новый стакан с джин-тоником. – Та женщина при ее состоянии охотнее посидела бы внизу, за нормальным столиком.
Женни считала купюры, перекладывая их из одной руки в другую.
– Так хочешь знать, что он сделал?
Кельнер перевернул лежавший на стойке пустой конверт.
– Это его почерк?
– Наверное. Наверное, его. – Женни зевнула и пересчитала купюры второй раз. – Значит, тебе это не интересно, Майки?
– Весьма благородно с его стороны, – сказал кельнер. – Пять сотенных? За такой гонорар ты могла бы и подождать, пока жена предаст его прах земле, – до тех пор, по крайней мере, могла бы подождать.
Женни спрятала деньги.
– Мне нужны новые туфли, – сказала она и опять зевнула.
– Боже, Женни! Ушам своим не верю! – завопил кельнер. – Да я тебе двадцать пар куплю – или сколько захочешь! – Он вытер руки кухонным полотенцем. – Ты что, устала?
– Нет, – сказала она. – Здесь просто мало света.
– Сварить тебе еще кофе?
– Не надо, – сказала Женни и кончиком пальца подтолкнула сигарету, чтобы она не высовывалась за край пепельницы. – Со мной все в норме. Я правда чувствую себя хорошо. – Она осторожно поднесла полный стакан к губам и начала пить, а кельнер, уперев руки в боки, наблюдал за ней.
Глава 17 – Долги
Кристиан Бейер рассказывает, как он проводил летний отпуск в Нью-Йорке с Ханни, своей новой подружкой. Неожиданный визит. Люди, деньги и вода.
Проведя пять дней в городе, мы еще ничего не успели посмотреть, кроме статуи Свободы, Всемирного торгового центра и Музея естественной истории. Около одиннадцати утра по телевизору объявили, что температура уже поднялась до ста одного градуса по Фаренгейту, а это, согласно пересчетной таблице в Бедекере, соответствует тридцати восьми и тридцати трем десятым градусов Цельсия. Всё кругом теплое и влажное, даже сиденье унитаза, книжки и те как-то искривляются.
Кондиционер не работает. Он вмонтирован в левое окно над нашей двуспальной кроватью и выглядит, как задняя стенка допотопного телевизора, но зато обеспечивает нам двадцатипятипроцентную скидку при оплате этой квартиры гостиничного типа, которая принадлежит Альберто, испанскому архитектору. Левая стена до самого потолка – зеркальная. Поэтому мы постоянно видим себя: по пути в ванную или к входной двери, когда обходим вокруг большого стола или направляемся в кухонный отсек.
Ханни лежит ничком, отвернувшись от меня. Правой рукой придерживает волосы на затылке. Ее попка и тонкая полоска под лопатками – белые. Подложив обе подушки под спину, я читаю вслух статью из «Гео»[30]– о жизни евреев на Краун-Хайтс.
– Ты спишь? – спрашиваю.
Голова Ханни шевельнулась: «Нет».
Нам обоим снятся забавные вещи. Вчера ночью это было скорее ощущение, ситуация: моя кровать и постельное белье превратились в некую азиатскую гавань, иллюминированную – поскольку я смотрел на нее вечером или ночью – многочисленными огнями. Все подо мной казалось живым, и куда бы я ни положил голову, под ней копошилась жизнь, жужжали чьи-то голоса и сообщения, отчасти адресуемые мне. Я не избавился от этого сна, даже когда сходил в туалет, и успокоился только утром, будто сама кровать подо мной наконец уснула.
– Открыть окно? – спрашиваю я. Ханнина голова совершает неуловимое движение.
– Значит, нет?
– Нет, – бормочет она, уткнувшись подбородком в простыню. Ночь за ночью, когда мимо нас проезжает уборочная машина, у какого-то автомобиля включается сигнал тревоги. Я уже знаю, что последует дальше: сирена, двухсекундный перерыв, потом все сначала. Кроме того, иногда дребезжит пожарная лестница. Резервуар для воды на крыше напротив течет, и потому нам все время кажется, будто мы слышим шаги. Каждое утро что-то каплет на наш кондиционер. Возможно, это жильцы этажом выше поливают цветы. Из-за марли от мух, натянутой на окно, невозможно высунуться наружу.
– Хочешь чего-нибудь выпить? – спрашиваю.
– Читай дальше.
– С меня хватит, – говорю я. – Заварить чаю?
– Не хочу никакого чаю. Ты вчера все бабки спустил.
– Не все, – говорю я.
– Ну, пусть не все, – говорит Ханни, поворачивает голову и смотрит на меня. – Почему ты ничего не сказал сразу, когда это случилось?
– Мне правда очень неприятно, – говорю я, перелистывая номер «Гео». – Чувствую собственную неполноценность, будто мне руку или ногу ампутировали.