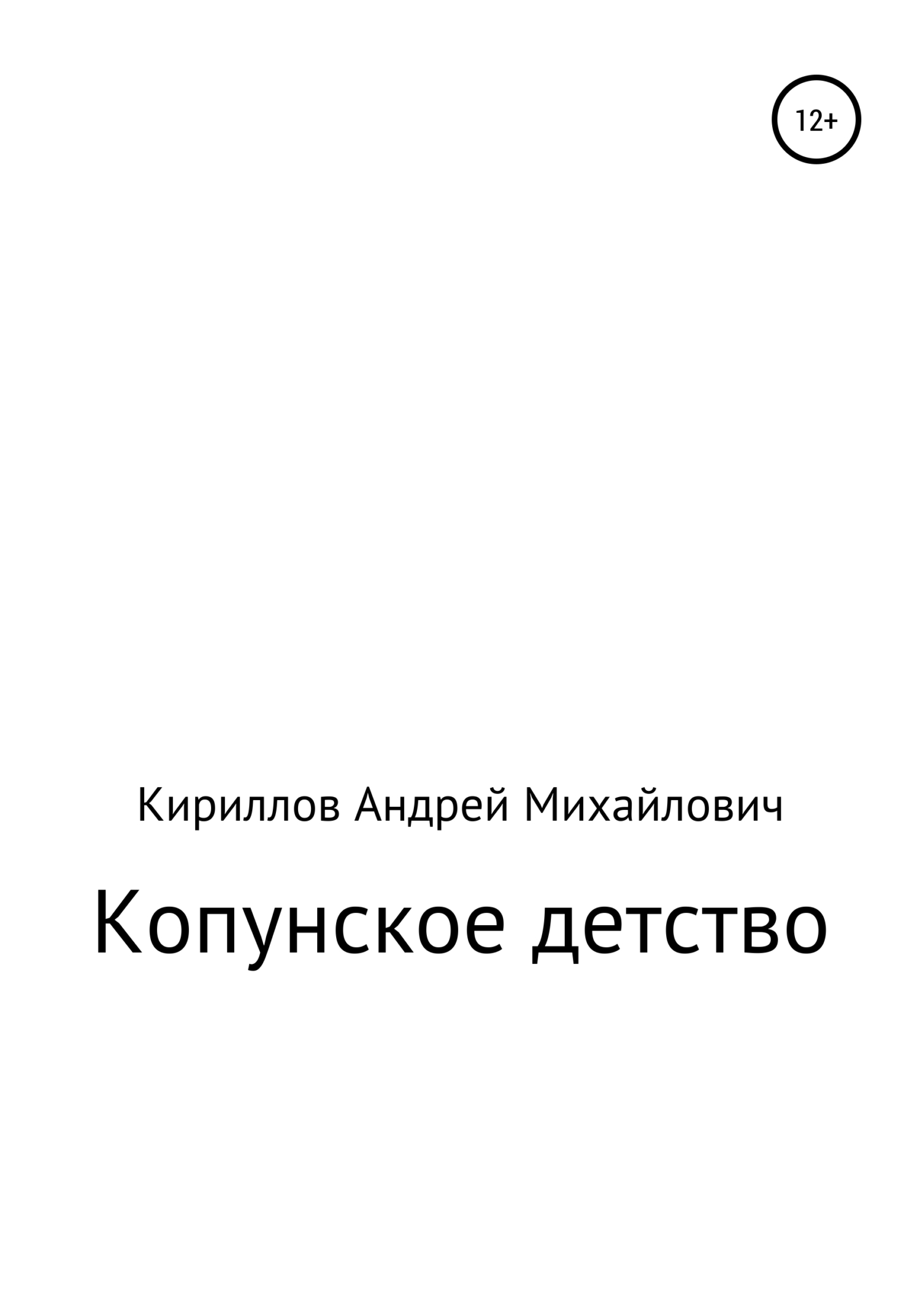Бакста, несмотря на суровую и, порой, грубую манеру его общения. Когда в 1910 году Бакст покинул школу (и Россию тоже), ученики школы были сильно расстроены, тем более что это произошло накануне открытия отчетной школьной выставки. Однако ощущение благодарности Баксту оставалось у всех. Бакст сумел выработать у своих учеников прочное чувство коллективизма. Оболенская писала: «Никогда не быть одиноким, оторванным от целого, быть частью целого, исполняющей свою задачу в общей работе, смотреть на мир такими большими глазами – глазами всей школы, и вместе с тем оставаться самим собой вопреки решительно всем другим школам, <…> всё это создавало незыблемую почву под ногами, такую прочную, какой, верно, уже больше не почувствуешь никогда».
Некоторые ученики покинули школу (часть еще на рубеже 1909/1910 годов ушла в «Союз молодежи»), но Оболенская осталась ей верна. Для нее переход в ученичество к Кузьме Петрову-Водкину, который занял место Бакста, был естественен, хотя при этом произошли существенные перемены даже в методике преподавания.
Юлия Оболенская. Автопортрет. Астраханская государственная картинная галерея. 1914-1918
Юлия Оболенская в Коктебеле. 1913
Но личное расставание с Бакстом было тяжелым. В 1919 году, «в эпоху стенных газет», она прочитала телеграмму из Парижа о его смерти: «После тяжелой болезни скончался известный художник Леон Бакст». Она вспоминала: «Лишенная возможности по каким-то сложным соображениям пойти на гражданскую панихиду во Дворце Искусств, я сильно горевала. Что бы ни говорили там о Баксте под этим чужим именем Леона – никто не знает о нем самого главного, о чем могла бы помнить тогда в Москве только я». Однако через два года Оболенская узнала от Игоря Грабаря, что известие было ложным – Бакст жив. В 1924 году ей «вторично пришлось пережить известие о его смерти, на этот раз, к сожалению, достоверное».
К середине 1910-х годов Оболенская создает собственный живописный стиль, вобравший в себя уроки Бакста и одновременно свободный от влияния Петрова-Водкина. Этот период – ее первый творческий расцвет.
Дальнейшая – после школы Званцевой – художественная судьба Оболенской связана с Константином Кандауровым. В 1915 году она участвует в организованной им «Выставке живописи “1915 год“» – одной из самых радикальных московских выставок раннего авангарда. Выставка, правда, состояла из двух частей (этот факт отметила критика). Одна часть была представлена крайними левыми новаторами – Ларионовым, Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Маяковским – и представляла различные ассамбляжи, составленные из «нехудожественного материала» (особенно впечатлял разрезанный пополам цилиндр Маяковского). Вторая часть, по словам критики, представляла собой «просто живопись». Здесь были бубновалетцы Машков, Лентулов, Куприн, Фальк, а также Шагал, Альтман, Митурич. Оболенская примыкала к этой группе – от крайних новаторов она была далека. Выставила портреты, пейзажи, натюрморты, всего более десяти произведений.
В 1918 году Оболенская вступает в Профессиональный союз художников – живописцев Москвы и участвует в первых двух выставках. В том же году она занимается кукольным театром и делает при участии Кандаурова литографированное издание своей пьесы «Война королей».
В первой половине 1920-х годов, обогатив себя опытом агитационно-массового искусства (роспись агитвагонов, оформление спектаклей и книг), Оболенская становится членом – учредителем общества художников «Жар-Цвет» (организатор тот же Кандауров), состоящего главным образом из бывших участников «Мира искусства» и «Московского салона» и декларирующего «композиционный реализм на основе художественного мастерства». На второй выставке общества она экспонирует одну из своих главных картин – «Слепые» (1925. Ярославский художественный музей). Она достигает творческой зрелости – усвоенные у Бакста живописные приемы соединяются с условно-декоративной стилистикой ОСта. Именно этой стилистикой обусловлена специфическая жесткость форм в картине.
Юлия Оболенская. Слепые. Ярославский художественный музей. 1925
Во второй половине 1920-х Оболенская – научный сотрудник Государственной Академии художественных наук (ГАХН) и участник ряда художественных выставок, в том числе 16-го Венецианского Биеннале.
В 1930-е годы собственная художническая деятельность Оболенской постепенно замирает. И дело не в творческом кризисе, а в характере эпохи, в которой образованный культурный художник оказывается лишним, ненужным, не находит своего места, а посредственность, напротив, торжествует. В этом была и личная трагедия Юлии Леонидовны Оболенской.
Революция Пунина
Отношения Николая Николаевича Пунина с революцией в разные периоды его жизни складывались по-разному.
Первая – революция художественной формы – увлекла Пунина в «содружество квартиры № 5». Так он сам называл квартиру хранителя Музея Академии художеств, где жил молодой художник Лев Бруни. Сюда приходили поэты, композиторы, писатели, литераторы и, естественно, художники. Здесь бывал цвет петроградской художественной интеллигенции. Здесь Серебряный век встречался с нарождающимся авангардом и в бурных полемиках рождалось новое искусство.
В «Квартире № 5» революционные идеи буквально носились в воздухе. Кубизм и экспрессионизм сменяли друг друга и стремительно уходили в прошлое. Хлебниковская «Труба марсиан» звучала прощальной песней футуризму.
В этих действах Пунин играл объединяющую роль. Он пестовал Бруни, Митурича и Тырсу, защищая их от мирискуснических нападок Бенуа. Он взращивал талант Татлина. Описание «Квартиры № 5» – одно из самых живых в книге. «<…> у наших встреч и у всего, что связано с ними, были свои радости и свои обиды, свое честолюбие, своя гордость, свое высокомерие; в страстях, ненавидя и отрицая, в борьбе, отрицая преждевременно и нетерпеливо, самонадеянно веря в неизвестное и ничего решительно не зная, с каким будущим придется иметь дело, – так мы жили “там” с горячностью, о которой странно вспомнить, побуждаемые молодостью, может быть, даже тщеславием, теперь совсем смешным; любили свои встречи, любили искусство и ревниво берегли его друг от друга».
Вторая революция – уже политическая – захватила Пунина сразу же в 1917 году: по призыву Луначарского он стал заведующим Петроградским отделом Изо, а затем комиссаром Русского музея и Эрмитажа. Время было горячее, сконцентрированное. Пунин увлеченно занимался самыми разнообразными делами – устройством выставок, организацией музейного дела, преподаванием. Тогда авангардистам, и Пунину в том числе, казалось, что они вступили в эпоху нового жизнестроительства и культурного новаторства, что раздвигаются горизонты искусства. С начала 1920-х годов отрезвление наступало у всех по-разному. У Пунина – трагически. В августе 1921 года он был арестован по делу «Петроградской боевой организации», но через месяц отпущен. Так закончился его «роман с революцией» (слова Пунина), революцией политической.
Роман закончился, но революция, как брошенная любовница, продолжала за Пуниным следить.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов, на волне некоторого послабления в борьбе с формализмом, были изданы мемуары Лившица и Шкловского. Пунинским мемуарам не повезло: он сдал рукопись в издательство, и она на