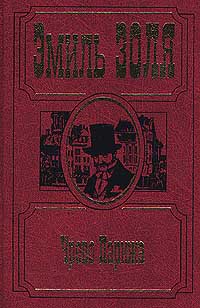карты.
А то вдруг, привлекая всеобщее внимание и вызывая улыбки, начинал гоготать снежно-белый гусь, высунув голову из завязанной холстиной корзины и беспокойно крутя онемевшей шеей. Хозяйка гуся, старуха в черном платке, с лицом, сотканным из морщин, что-то бормоча, наклонялась к корзине. Долго и старательно приглаживала холстину сухими костлявыми руками, вталкивая гусиную голову вовнутрь.
Только цыганкам, невесть какими ветрами занесенным на эту малоизвестную, затерявшуюся в лесах станцию, где дальние поезда стоят одну-две минуты, не сиделось. Они толпились у входа в пестрых, доходящих почти до пят, давно не знакомых с мылом и утюгом платьях, с грудными на руках и чуть бо́льшими по бокам. Появлялся в дверях новый человек — и смуглые руки со всех сторон тянулись к нему.
— Эй, постой-ка, постой-ка, ха-ароший человек, давай погадаю! — наперебой предлагали цыганки.
Охотников находилось совсем мало. Люди проходили, ухмыляясь и пожимая плечами. И это заметно раздражало гадалок. Потоптавшись, они пронзительно смотрели в зал, суля взглядами тысячи бед и неприятностей. Только дети их, большеглазые, освоившиеся в шумном зале, как в таборе, весело перебирали босыми пятками и вдруг пускались наперегонки между сиденьями. Ловко перепрыгивали через чемоданы, корзины, рюкзаки, сжимая в руках ломти магазинного хлеба.
«Господи, — вздохнула Анна Анисимовна, — ездиют, ездиют всю жись, как имя не надоедает? Хотя б ребятишек пожалели. Поди, и в школу не попасть ребятишкам-то, неграмотными останутся, коли родители ихние осесть в одном месте не могут».
Анна Анисимовна с трудом пробилась сквозь гадалок и теперь сидела на деревянном диванчике в глубине зала, наискось от кассового окошечка, рядом со старухой в черном платке. Старуха дремала, держась слабыми руками за низ диванчика. Гусь в корзине тоже затих. Только иногда из-под холстины слышалось недовольное шипение.
— Эй, хозяйка, почему такая невеселая сидишь? Ты еще красивая, здоровая, долго-долго жить будешь. Хочешь судьбу твою предскажу? Тебя ждет дальняя дорога, встреча приятная… Позолоти руку, скажу еще.
Глянула Анна Анисимовна — молодая цыганка перед ней стоит. Одну руку с медным кольцом на безымянном пальце к ней протянула, другой дите свое грудное, завернутое в тряпье, укачивает.
— Отстань! — губы у Анны Анисимовны затвердели, она придвинула к себе чемодан и плетенку.
В один миг вспомнилось ей, как в далекую осень цыганки, заглянувшие в Марьяновку, ее обманули. Вот такое же медное кольцо в стакан с водой опустили, вскричали: «Гляди, гляди, хозяин твой появился!» Долго смотрела она в кольцо, надеясь увидеть в нем мужа своего, Архипа Герасимова, в красноармейской шинели, живого. Хотя кроме донышка стакана так ничего и не увидела, пришлось отдать полведра картошки, очень дорогой в ту военную пору, пятьсот рублей за пуд. А когда цыганки ушли, спохватилась, шаль шерстяную, единственное ее добро, будто ветром с гвоздя сдуло…
— Отстань! — повторила Анна Анисимовна. — Обойдусь без гадалок.
— У-у-у, жадина несчастная, старая баба! — зло повела цыганка липкими черными глазами.
Она круто повернулась, задев Анну Анисимовну платьем. Ребенок на неласковой руке зашевелился, захныкал, раскрыв беззубый рот и жмуря глазки-бусинки. Анна Анисимовна вздрогнула: другой плач — безудержный, безутешный, там, на копне, вдруг снова послышался ей…
— Погоди-ка! — окликнула цыганку.
Суетясь, сунула руку в боковой карман пальто, выскребла оттуда всю мелочь — копеек сорок, может и побольше, высыпала ее на мигом появившуюся ладонь:
— Робенку своему молочка купи, базар-то рядышком.
— У-у-у, жадина, — обиделась цыганка, небрежно сунув мелочь куда-то в смыкающиеся складки платья. — Бог тебе счастья не даст.
— Замолчи! — крикнула Анна Анисимовна, опомнившись, опешив от такой неблагодарности. — На колхозную ферму, в поле иди, ежели желаешь заработать.
— Не даст бог счастья тебе и детям твоим! — озлобленно бросила цыганка, уходя.
— Рубли им выкладывай, на меньше не согласны, — заговорил мужичок в новенькой ватной фуфайке, с небритым, будто ржавчиной покрытым, лицом. — У цыган нонче иная жизнь пошла. Мужья их, разве не слышала, в колхозы бороны ремонтировать нанялись. Были они и у нас, в Монастырке, дак за каждую борону по десятке затребовали. А новая борона, с завода, меньше стоит. Председатель наш, было, не соглашался, они его измором взяли. Из правления не уходили, бумажки какие-то под нос ему совали, будто они большие специалисты по ремонтному делу. А ремонт-то сделали вшивенький: поставили пару планок на борону, оттянули кое-какие зубья да искупали бороны в солярке. Пришлось доделывать все монастырским механизаторам…
Зашевелилась старуха, открыла глаза, синие, удивительно ясные на ее худом, будто выжатом, лице.
— Куда едешь-то? — живо повернулась Анна Анисимовна к ней.
— Ась? — спросила старуха, развязав черный платок и приложив ладонь к тонкому, с синими прожилками, уху.
Анна Анисимовна наклонилась к ней совсем близко, прокричала:
— Куда, спрашиваю, поехала?
— А-а, — закивала головой старуха, голос у нее был ясный, мягкий. — К внучке, к внучке, грю, в город поехала. У сыночка ейного, правнучка мово значится, зубики прорезались, пущай-ко гусятинки, грю, попробует…
Заслышав голос хозяйки, гусь за холстиной беспокойно заворочался, шея его, выгнутая дугой, проскользнула к краю корзины. Но холстина теперь держалась крепко.
Анна Анисимовна, засуетившись, вытащила из бокового кармана пальто чуть помятый конверт, а из него — фотографию, протянула ее соседке:
— Вота, погляди-ка. На свадьбу к имя в Москву еду…
Старуха не отозвалась. Может, не расслышала, а может, притворилась, о своей бесчисленной родне думать ей время нужно было. Она снова задремала, зажав худыми ногами в сползающих выцветших чулках корзину с гусем.
«На печке бы тебе в своей избе сидеть, — с досадой покосилась Анна Анисимовна на старуху, немощную, лет на пятнадцать-двадцать старше ее самой. — Мало, видать, маялась со своей оравой, к внучкиному углану за столь верст без смысла засобиралась. Зубики, дескать, у его прорезались, гусятинки хочет. Пущай, мол, побалуется. Гуся-то он и родители его живо слопают, оглянуться не успеешь. А тебя-то, тебя-то саму наделят ли лаской, заботой, вниманьем? Сошлются небось на тесноту в городской квартире, дороговизну в городских лавках и скорееча выпроводят за дверь. Эдак зазря и съездишь, помаявшись».
Анна Анисимовна отодвинулась от старухи на самый край сиденья и принялась разглядывать фотографию, торчком поставив ее на колени. Думала: полюбуется на сына и невестку — хорошо, покойно на душе станет. А вышло иначе — расстроилась. В груди у нее заныло, в глазах туманно стало, руки задрожали, будто не старухе с гусем, а самой себе загадала она только что безрадостную поездку.
Пытаясь заглушить угнетающее, совсем некстати появившееся чувство, Анна Анисимовна начала припоминать все доброе, что сын сделал для нее, приехав в отпуск.
Пенсию колхозную через председателя выхлопотал, самой вряд ли бы дали. Пусть мала пенсия — двадцать рублей в месяц, но все-таки веселее жить стало при ней. Признали в правлении,