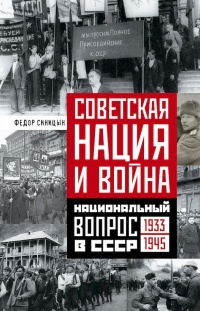Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 63
Был ли Петр первым?
Что нового Петр и его эпоха принесли на строительную площадку, где происходило становление российской идентичности? Рассматривая вклад Петра в формирование российской идентичности, мало что на идеологическом поле его творческих инициатив можно считать «первым». Ища признаки «первенства», Вера Тольц, скажем, причисляет к его достижениям «революционную идею, принесенную из Европы, согласно которой государство было отделено от персоны царя и поставлено над ним». Она обращает внимание на возвышение Запада как будущего конститутивного «иного» для формирования российской национальной идентичности и упоминает как еще один фактор географического расширения империи, которую осуществил Петр[264]. Однако если учесть московский опыт XVII века, ни один из этих факторов нельзя рассматривать как уникальный вклад в российский процесс творения нации. Ведь, как было отмечено в предыдущем разделе книги, идея отделения государства от личности правителя впервые появилась в российских политических трактатах во время Смуты. Тогда же московиты начали обозначать себя с помощью противопоставления католическому и протестантскому Западу, пусть тогда его и воплощали поляки и литовцы, а не западные и центральные европейцы. Если говорить о расширении империи, то вклад Ивана IV в «империализацию» российской психики заметно превышает вклад Петра I. Также сомнительными представляются тезисы Лии Гринфельд о смене значения слова «государство» с «господства» и «царства» на «державу», которая якобы осуществилась во время правления Петра. Есть основания считать, что такое изменение произошло в московских текстах после Смутного времени, даже раньше. Кроме того, как отметила Гринфельд, Петр продолжал воспринимать свое государство как часть себя[265]. К этому следует добавить, что в панегириках, посвященных Петру, вроде тех, которые вышли из-под пера Феофана Прокоповича, Россию не представляли без ее славного «pater patriae». Если Петр I (или его эпоха) не имели первенства во всех этих аспектах, каково их значение для нашего исследования? Несомненным представляется то, что все эти идеи, впервые очутившись в официальном московском дискурсе в XVI веке, во времена Петра стали по-новому значимы и весомы.
«Петр Великий». П. Деларош, 1838 г
Бесспорные идеологические инновации Петра, которые выделяют его достижения на фоне достижений более раннего периода, касаются секуляризации государства (Тольц) и «национализации» официального дискурса (Гринфельд). Тольц считает, что российская светская элита прекратила противопоставлять себя Западу главным образом в религиозном русле. Гринфельд отмечает, что пока российская элита искала пути к обозначению себя с помощью светской терминологии, она развила лексический запас, который был необходим для проговаривания ее новой идентичности не только в контексте лояльности к правителю, но и к таким конструктам, как государство и отечество. Особенно важно для нас то, что оба процесса трудно вообразить без активного участия вышколенного в Киеве духовенства. Киевляне основательно взялись за первый из этих проектов, обозначив наиболее антисекулярные и антизападные элементы московского общества как «раскольничьи» (это клеймо поставил на них Симеон Полоцкий), а после подчинив Церковь государству с помощью «духовного регламента» 1721 года, который составил Феофан Прокопович с другими киевлянами, например, Гавриилом Бужинским. Своими переводами сочинений Пуфендорфа Бужинский ввёл в российский политический дискурс такие понятия, как «гражданин» и «общество»[266]. Киевляне также стали первопроходцами «национализированного» дискурса, хотя идентичность, которую они создали таким способом, была не «великороссийской», как считает Гринфельд[267], а «всероссийской», или имперской. Как показано выше, они взяли понятия нации и отечества, разработанные ранее в Киеве для обозначения Гетманщины, и, не мудрствуя лукаво, без колебаний приложили их ко всей многоэтнической и многоконфессинальной империи. Тем самым они сильнее размыли границу между славянским православным ядром царства/империи и неславянской и нехристианской (или, по крайней мере, неправославной) периферией. Новую российскую идентичность, которую помогли развить киевляне, задумывали так, чтобы она охватывала малороссийскую и московскую элиты, а также чужестранцев с Запада, которые поступали на имперскую службу. Однако она не могла охватить русинов, которые жили за пределами западной границы Российской империи, а также неславян, очутившихся на ее территории.
Гавриил Бужинский
«Путешествие Аввакума по Сибири». C. Милорадович, 1898 г
Анна Иоанновна
И власть, и раскольники из старообрядцев называли нехристианское население Востока чужестранцами. Один из первых политических ссыльных Сибири протопоп Аввакум, вспоминая тамошний край, писал: «страна варварская, иноземцы немирные». Он не считал Сибирь Русью, ибо, когда его позвали обратно в Москву, он радовался возвращению в «русские грады»[268]. Как и старообрядцы в целом, Аввакум не чувствовал потребности проповедовать «варварам». Его позиция очень отличалась от той, которой придерживалось царское правительство, охотно обращая «чужеземцев» в христианство, а значит, в подданство царю с помощью вышколенного в Киеве духовенства[269]. Царь считал свою империю унитарным государством, возникшим в результате завоеваний, а не разнообразным скоплением земель, народов и религий. Не все его современники разделяли эту точку зрения. Через «окно», которое Петр прорубил в Европу, в Россию вошли новые идеи, касающиеся империи как многонационального образования. В 1730-х годах Анна Иоанновна уже почтила «многоэтничность» своей империи, собирая в столице для участия в праздничных парадах представителей подвластных народов (в частности и казаков) в традиционных строях[270]. Времена все-таки менялись. Впрочем, сколько бы внимания правители империи ни уделяли внутренним «чужакам», те долгое время оставались за пределами российской имперской идентичности.
Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 63