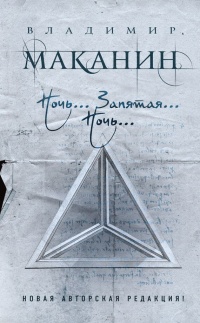– Зыч, Зыч, ты чего? Он идет.
Все ближе и ближе чавканье, прерываемое пошлым:
«Йа-ля-ля, йа-ля-ля…». Остановился перед нашим кустом, задрал лапу.
– Ах ты ничтожество, – возопил Хорькович, метнулся из засады и вцепился в пасть бульдогу.
Толстый, пьяный шеф от страха присел, утробно завыл, бросился наутек, мы за ним. Кротан колотил по его лапам моим пистолем, Хомякович на его загривке готовился снять скальп, двухметровый Миха телом перекрыл путь, Стукач ухватился за что-то снизу, и страшный крик сотряс округу.
– Не оторви, не оторви, – завопил я, – он нужен нам живым!
Стукач не отзывался, мы сурово придвинулись, шеф еще дергался.
– Ребята, – прохрипел он, – уберите… псину…
С трудом разжали стальные челюсти, Стукач отпал.
– Зря вы это, мужики, – сипел старик.
– Вяжи его.
Вы тащили хоть раз на себе пьяного бульдога? Миха-то отказался, тоже мне, соратник боевой, шкура медвежья, но принесли, подписали бумаги, сдали. Вернулся под утро измотанный, без сил, опустошенный, на кухне ждала Леля.
– С победой, теперь ты шеф, я твоя секретарша.
– Что? Как? Ты о чем?
– Женщина, если любит, на все пойдет, папа знает.
Я отшатнулся.
– Милый, ты должен, ты просто обязан понять, я не могла иначе: жизнь коротка, счастье быстротечно, неужели же я не заслужила просвета в заячьей мгле?
– А Косяк?
– Он клал на нас уродливое пятно, милый.
– Уходи.
Я потерянно озирался, включил радио, шел 5-й концерт для голоса с собакой, Adagio, всепримиряющее, всепрощающее, все понимающее. Звездочки ясные, звездочки маленькие, не стать Леле моей музыкой…
Прошло два месяца.
Леля сошлась с Ежовичем, старичок неплохой, на спине все в дом тащит, но мелковат и пукает; шефом я не стал, Мордарож освобожден – улики исчезли, да и какие улики, писк комара в нашем мире ничего не значит, Косяка похоронил.
Не судите строго, ибо я бегу, вновь бегу и бегу.
Лапы искалечены, сердце надорвано, куда бегу, зачем бегу…
Я Заяц, не вытравить из меня меня.
Пнин и Моросяк
На край крыши пятиэтажного дома сел Моросяк, не евший три дня, и тоскливо огляделся. Никого и ничего, тучные времена закончились, Пнин пропал.
Встретились они месяц назад около консервной банки с остатками тунца. Не похожий на всех, с коричневым пером и белыми отметинами на груди, но с одним глазом, пригласил к столу, завязалась дружеская беседа.
Оказалось, прибыл из деревни в город к тетке, но ту переехала машина. Бедная, наглотавшись пива из бутылки на дороге, прямо там и заснула. Откровенно, не таясь, рассказал, где потерял глаз: в битве за червяка с родичами, было бы хоть за что. Все бросил, не сожалеет, город понравился, но друзей еще не приобрел.
Доверие покорило, и был один воробей, стало двое, прильнули друг к другу.
Надо признаться, не все ладно складывалось у них – как-то раз Пнина за одноглазие чуть было не пришибли на террасе клиники для инвалидов: те вскипели, решив, что птица нарочно щурится, глаз прикрывает – издевается.
Разное, конечно, происходило, разное, что и говорить…
Внизу закричали, он глянул: мужчина, задрав голову, упрекал кого-то в безобразии. Моросяк искренне ему посочувствовал: крупная дама с балкона четвертого этажа с силой вытряхивала коврик, сыпалась всякая дрянь.
Дама возразила, начались переговоры.
– Ну что сидим? – произнес простуженный голос.
Пнин явился, услышал-таки заветные думы Моросяка.
– Ты где был?
– Крыса.
– Какая крыса?!
– Зимняя, закусить мною хотела, – хихикнул, – сбежал. – Пнин коснулся крылом друга. – Что, так и будем ждать, летим!
Они ринулись с крыши.
– Слышал, по радио передали, «комиссар Белыч удалил жену из дома». Надо же, «удалил», – и Пнин на лету от удовольствия перекувыркнулся.
Моросяк позавидовал, он не смог «удалить», сам удалился, и давненько. Нелепо все так получилось: рассказывал, как обычно, за завтраком свои сновидения, и воробьиха (имя ее вспоминать не желал) не вытерпев, обиженно протянула, почему она не снится мужу.
Он растерялся – от него не зависит.
– Каждый видит то, что хочет, – многозначительно заявила жена.
В глазах потемнело, дыхание перехватило, выпорхнул из гнезда, больше в нем не появлялся…
– Смотри, как шумят, как шумят, сейчас он к ней на балкончик впрыгнет и… – Пнин присвистнул, – летим.
Они закружили над улицами.
Пнин уверенно вел за собой, наконец влетели в форточку аргентинского ресторана, благо, она была открыта, и перья дыбом на головах встали, хвосты затряслись, клювы жадно раскрылись от обилия пищи на полу.
Подбадриваемые смехом, друзья насытились, с трудом взлетели.
На стене под потолком торчали рога, а под ними череп, может, коровы, может, быка. Пнин заснул на черепе, Моросяка замутило от мертвечины, и он примостился на стуле.
Друзья уговорились переждать здесь холод.
Пнин, сверкая одним глазом, веселил публику, прыгая и перепрыгивая, порхая и перепархивая. Моросяку не везло, цветом он был серый, гнали его от любой, даже самой малой, крошки.
Он приуныл и как-то ночью признался:
– Я устал.
– Чего вдруг?
– Да скучно мне.
– Ну раз скучно…
Покинули ресторан и восхитились: пока они прятались и задыхались в духоте и полумраке ресторана, солнце растопило снег, мороз, а с ними и зиму.
Два дня, два теплых дня прогретые и оживленные друзья прогуливались по аллеям парка, по берегу местного пруда, по крыше церкви. В третий день, к вечеру, когда вороны успокоились, а скворцы замолчали, Пнин задумчиво сказал:
– Ты понимаешь, понимаешь ли ты – весна, инстинкты…
– О да! – охотно откликнулся Моросяк, и оба взлетели.
Неподалеку от парка проживала воробьиха Надежда, всякие ходили о ней сплетни, вот туда и подались два друга. А невестушка и в самом деле была хороша: чистое перо, белая грудка, застенчивый взгляд, смущенно переступала с лапки на лапку.
«Не дай Бог, полюбит, не дай Бог, что буду делать?!» – замер Моросяк.
– Вы должны биться за меня, – и Надежда мечтательно посмотрела на них. – Я видела бои по телевизору.
– Какой телевизор?! – возопил Моросяк, но Пнин не внял разумным словам и, как коршун, набросился на друга.