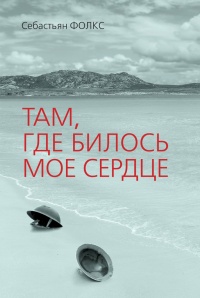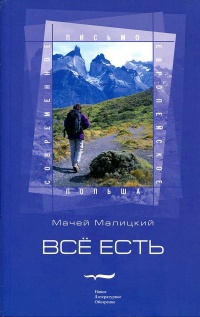7
На писательстве его, судя по всему, окончательно поставлен крест. Сейчас он даже с корреспонденцией едва управляется, не говоря уж о чем-то другом. Самое удивительное — его это даже не особо занимает. Все его мысли — о грядущей ночи, о текущем дне, где от часа к часу все предусмотрено и расписано, о сегодняшних визитах, процедурах, о ближайшей трапезе. Он прикидывает, сможет ли сегодня встать, с утра смотрит в окошко, какая погода, можно ли будет на балкон, и ждет Дору, без которой он давно бы уже был не жилец, думает о предстоящем визите врача-легочника, который назначен на завтра и которого он до смерти боится. Не считая всего этого, чувствует он себя на удивление хорошо. Никуда не надо уезжать, по крайней мере пока деньги не кончатся, они могут вместе сидеть на балконе, вспоминать. Дальше Берлина он обычно памятью и не возвращается. Упования у него тоже не сказать чтобы чрезмерные: можно помечтать о поездке куда-нибудь подальше, порадоваться мелким новостям, которые сообщает Дора, приветам из Праги или из Берлина, потому как ему теперь и из Берлина приветы шлют, от Юдит, которой он обязан радостью присланных Доре платьев.
Дора пишет, звонит по телефону, иной раз он дивится, сколько у нее сил, тем паче что от его общества, видит Бог, к сожалению, радости мало, из-за хрипоты он все чаще вообще говорить не может, в самое неподходящее время вдруг устает и ест, к ее огорчению, гораздо меньше, чем следовало бы.
О венском светиле рассказывают, что его однажды сюда к одному из пациентов тоже вот так вызвали, но потом, поскольку он затребовал три миллиона, визит в последнюю минуту отменили, прошлой осенью это было, когда и здесь цены на все взлетели до небес. Все утро они его ждут, а когда он наконец приезжает, весь визит длится не более получаса. Для светила он всего лишь очередной чахоточный, один из несметных тысяч, но раз уж он здесь, то производит краткое обследование гортани, щупает понемногу там и тут, после чего, не забыв оставить счет за свои услуги, уезжает обратно в Вену. При виде выписанной суммы Дора слегка бледнеет, но ничего не говорит, только выходит ненадолго из комнаты. По ней хорошо заметно, как много для нее этот визит значит. Профессор не сказал этого прямо, но понять нетрудно: он такой же безнадежный случай, как и все пациенты в этом санатории, где, впрочем, все они, по крайней мере, в приятном обществе. Дора, впрочем, стойко делает вид, будто этот визит — всего лишь дурацкое недоразумение. Но ей конечно же нужна помощь. И как он раньше об этом не подумал? Однажды она уже и сама мельком намекала, вроде как с Робертом у нее об этом разговор был, а теперь она то и дело о Роберте вспоминает, как это было бы хорошо, если бы кто-то еще с ним мог побыть, хотя бы просто поболтать, пока она на кухне или бегает в деревню за покупками. К тому же у Роберта тоже туберкулез, по счастью, только в начальной стадии, но он эту болезнь знает и, безусловно, если понадобится, сумеет помочь. Ладно, говорит доктор, хотя у него к Роберту давно уже душа не лежит, что-то в этом человеке всегда ему претило, сама его повадка, какая-то вызывающая, требовательная готовность к подчинению.
Для начала он просто приезжает навестить доктора. Дора встречает его на вокзале, доктор тем временем отдыхает в тени на балконе, раздетый до пояса, с позавчерашней газетой, пришедшей вместе с остальной почтой из Праги. Три года прошло с тех пор, как они познакомились в санатории. Война давно уже кончилась, однако именно о войне они много тогда говорили, ведь Роберт и на восточном фронте успел повоевать, а потом еще в Италии, в эти два года он чахотку и подхватил. Сколько и когда бы они ни встречались, вид у него всегда был свежий, моложавый, но какой-то мягковатый, прежде всего в выражении лица, в котором запечатлелась тень неизбывной горечи, ведь болезнь не позволила ему окончить университет и стать врачом. Как и следовало ожидать, он нисколько не изменился. Приехал в костюме, при жилетке, волосы приглажены, от левого виска, как всегда, безупречный пробор, словом, вполне благополучный молодой человек лет двадцати с небольшим. Очевидно, они с Дорой уже успели многое обсудить, он почти не задает вопросов. Но готов помогать, говорит, что даже рад будет, словно много лет только и ждал возможности вроде этой. Для Доры его приезд — просто спасение. Она показывает ему вид с балкона, комнату, где они успевают поговорить еще немного, осматривают даже столовую и кухню, где она готовит, — это ее маленькое царство. Он намерен остаться на несколько дней, прямо здесь, в санатории, где, по счастью, еще есть свободные комнаты, так что в итоге все довольны, сколь ни трудно приходится доктору в эти дни, с каждый днем все труднее разговаривать, но даже и читать, ведь на днях прислали нового Верфеля, и он время от времени его читает, бесконечно долго, всего по нескольку страниц.
Приходит какой-то новый покой, скорее в душе, так ему кажется, потому что вокруг по-прежнему все время что-то творится, ему назначили компрессы и ингаляции, из-за температуры это пока что единственное лечение. От предложенных доктором Хофманом инъекций мышьяком он отказался, но со вчерашнего дня температура, похоже, и в самом деле стала спадать. Сегодня с утра, к примеру, она у него только слегка повышенная, с горлом все по-прежнему, хрипота, но говорить мешает лишь изредка. А больше всего он рад за Дору. С тех пор как Роберт здесь, она прямо преобразилась. Иногда эти двое сменяют друг друга, иной раз они сидят в комнате все втроем, обсуждают последние новости и сплетни из Праги, откуда только что пришла очередная почта, — почтой, кстати, теперь ведает Дора. Об этом настоятельно попросили родители, чем она необычайно горда и в одном из первых же писем осторожно напоминает насчет одеяла, она, мол, уже собралась сама купить в Вене, но Франц ведь ее тогда просто вышвырнет за дверь. Доктор смеется, когда читает эти строки, ему нравится, как она пишет, ее потешные, трогательные формулировки, — он, дескать, будет бурчать, что она ему в письме так мало места оставила, хотя на самом-то деле ему это только на руку. Ему нравится ее почерк, который, как она полагает, все больше становится похож на его собственный, нравится серьезность, с которой она благодарит его за то, что он позволил ей вести переписку. У него здесь и впрямь почти как прежде в конторе, чуть ли не каждый день надо отвечать на письма, конверты стопкой накапливаются на столе. Когда она пишет, он видит ее согбенную спину, но согбенную усердно, словно эта ноша ей в охотку, словно она не письмо пишет, а священнодействует.
Вечером, уже в постели, он спрашивает себя, что с ней будет. Что с ней станется, когда его уже не будет, куда она подастся. Немного странно и грустно думать о ней одной, без него, хотя ведь все свои первые годы она в Берлине без него жила и никогда на эту жизнь не жаловалась. Сейчас, прикрыв глаза, он, как ему кажется, видит: она не пропадет, ведь она хотя и хрупкая, но стойкая, такой, по крайней мере, он ее знает. Он мог бы на ней жениться, да он и сейчас еще может. Почему, собственно, он на ней не женится? Мысль несколько запоздалая, как он, хотя и не без оттенка облегчения, вынужден признать сейчас, когда он вообще не понимает, почему еще в Берлине ее не спросил. Об ответе ее он вообще не думает. А думает о Ф., почему та с самого начала была не той, а еще, но совсем отдаленно, о М., без особой боли, словно М. всего лишь логическое последствие ошибки, которой была его помолвка. До самой ночи он остается в приподнятом настроении, на его ночном столике лежит присланный редакцией экземпляр «Прагер прессе», где напечатана его «Жозефина», это тоже повод для радости, а еще Дора и ее новое платье, и даже еда была ему сегодня по вкусу, он и не припомнит, когда в последний раз с таким аппетитом ел.