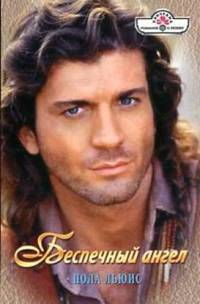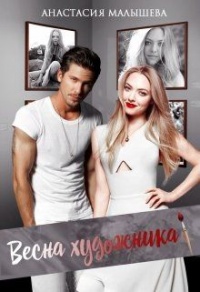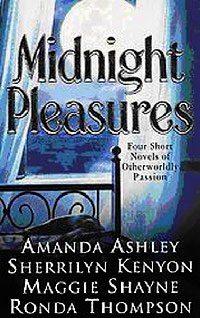Эстрелья никогда не бывала в этих местах и не подозревала, что они так прекрасны. Анхель рассказал ей, что впервые его, тогда еще совсем маленького, привела на этот пляж мать. Добраться сюда было нелегко — нужно было обогнуть гору по разбитой грунтовой дороге. Вот почему Агуалинда и сохранилась в почти первозданной красоте. К тому же местные жители тоже, как могли, оберегали этот свой кусочек моря, которым кормились, не имея других средств к существованию. Много лет назад один рыбак поведал Анхелю, что здесь все еще водились нереиды — морские нимфы. Рыбаки иногда видели их на рассвете в полнолуние. Нереиды путешествовали по океанам верхом на морских коньках или на дельфинах, и почти всегда головы их были украшены великолепными уборами из кораллов, откуда выпрыгивали веселые разноцветные рыбки. Мальчику ни разу не удалось увидеть нереид — как бы рано он ни вставал, когда прибегал к морю, солнце было уже высоко. Но он верил, что нереиды существуют, потому что каждое утро оставлял им в море маленькие подарки — цветы или раковины, — а на следующий день эти подарки исчезали.
Прошло сорок лет, и вот он снова вернулся в заповедный уголок своего детства. Вернулся влюбленный, а потому счастливый и полный надежд, как когда-то в далеком детстве. Ему не терпелось показать Эстрелье все сокровища этого уголка. Радуясь, как ребенок, он закрыл ей глаза руками и подвел к тому месту, некуда открывался необыкновенный вид на морской простор. Когда он убрал руки, Эстрелья увидела, как в прозрачной воде сверкают мириады разноцветных искорок. Множество рыбок самых немыслимых расцветок скользили сквозь крохотные отверстия в кораллах. Солнечные лучи, пронизывавшие воду, наполняли картину блеском и сиянием. Десятки морских коньков выплыли ей навстречу и словно приветствовали ее веселым грациозным танцем. Когда Эстрелья и Анхель поплыли вперед, им пришлось прокладывать себе дорогу среди множества крохотных рыбок, которые, словно розовые лепестки, падали на их тела. Казалось, каждая рыбка хотела поцеловать их.
Все было так, как и прежде. По-прежнему резвились в воде те рыбки, которыми он так часто любовались в детстве. И те, которых он боялся (не потому что были опасны, а из-за того, что у них были уродливые головы, способные внушить страх ребенку), тоже были на месте.
Он заметил на дне морскую звезду, достал ее и подал Эстрелье, которая пребывала в состоянии похожем на транс, — она чувствовала, что это ее мир, ей казалось, что она принцесса этого подводного царства, одна из тех самых нереид.
Когда они наконец пресытились великолепным зрелищем, то вышли на берег, упали на песок и предались другому наслаждению — объятиям и поцелуям, а когда им надоел песок, проникавший во все поры, побежали к морю и продолжали любить друг друга в воде. Устав от водной акробатики, они заснули под крики птиц, которые появились вместе с последними лучами заходящего солнца. Горизонт потемнел и приготовился к долгой ночи. На небо медленно выплыла его царица — просоленная луна, такая полная, что казалось, она вот-вот лопнет.
А в это время в доме пятьдесят семь по улице Ангустиас ветерок, пахнущий фиолетовыми колокольчиками, сменился ураганом страсти. Давид и Фьямма недолго месили мокрую глину — тела их не выдержали напряжения, и вскоре их руки погружались уже не в глину, а в податливую плоть. С той секунды, когда она ощутила дрожь Давида, Фьямма была не властна в своих желаниях. Было уже поздно противиться страсти. В руках скульптора ее тело становилось послушной массой, из которой он мог лепить все, что ему было угодно.
Они не помнили, как оказались на земле, — белые одеяния сорваны, тела испачканы землей и глиной.
Фьямма таяла в умелых руках Давида, который "ваял" такие ласки, о которых она и не подозревала. Он знал ее тело в мельчайших подробностях. Еще бы: вот уже двадцать пять лет он лепил его из глины, вырезал из дерева, высекал из камня. Он создал это тело в своем воображении, он мечтал о нем, не зная, что оно существует на самом деле. Он давно потерял надежду найти свою мечту, а потому вкладывал всю любовь в холодные изваяния, которые создавал и которые создавали из него большого художника. И вот он держит свою мечту в руках, может обнять, поцеловать, прижать к себе. Может раствориться в ней, теряя от любви голову. Сколько раз он гладил рукой эти каменные фигуры? Сколько раз просил небо оживить хотя бы одну из них, хотя бы на одну ночь!
И вот в пятьдесят лет он ощутил вкус любви. И любовь эта была из мира искусства. В ней была вся та красота, какая была ему необходима. Она была женственной, чувственной и нежной. Была легкой и воздушной, точно перышко. Была девственной, словно нешлифованная яшма, — Давид угадывал по стонам Фьяммы, что никто никогда не ласкал ее так, как делал это он. Вот почему в тот вечер он обращался с телом Фьяммы, словно это был новый материал, из которого его руки должны сотворить новую женщину. Не осталось ни одного сантиметра на ее теле, которого Давид не перевоссоздал бы. Его пальцы были инк совершенные инструменты для извлечения стонов наслаждения. С особым трепетом он ваял грудь Фьяммы, медленно и осторожно выравнивая каждую полусферу, каждый лепесток готового раскрыться розового бутона.
Давид не спешил — творение, выходившее из-под его рук, было бесценным. Как опытный скульптор, он завершал сначала одну часть фигуры, а потом переходил к следующей. Он взял в руки нетронутое лицо любимой и языком, словно резцом, изваял один глаз, затем другой, обозначил брови, ресницы, линию носа, спустился по одной из скул к мочке уха и задержался там, тщательно и осторожно высекая прелестную ушную раковину.
Фьямма чувствовала, как с каждой минутой возрождается дается ее кожа. Словно пробуждается от летаргического сна. Словно она умерла много лет назад и сейчас рождалась заново. Каждой порой чувствовала она, как возвращаются к ней чувства. Фьямма с детским восторгом отдалась игре в создание "живой статуи", зачарованная творившими волшебство руками Давида.
А Давид утолял голод медленно. Он хотел налюбоваться ею, почувствовать ее всю не только губами, но и глазами, насладиться каждой складочкой ее тела. "Это не то что камень", — думал он. Тело Фьяммы отвечало на его ласки горячо и страстно, не так, как холодный мрамор.
Когда Давид насытился живой плотью, а Фьямма — нежными прикосновениями, они перешли к ритмичным движениям. Фьямма скакала верхом на Давиде, как на этрусском коне из своего сна, а Давид, словно резцом, рассекал нутро Фьяммы.
Так шли часы, и все так же струился пот по разгоряченным телам, все так же раздавались вздохи и стоны, сопровождаемые журчанием фонтана и хлопаньем крыльев кружившей над ними рыжей голубки. И наступил вечер, пьяный от разлитого по небу красного вина.
Они опомнились, только когда стемнело. Поднялись с земли и побежали смывать с себя грязь и пот. Встали под душ, чтобы вернуть коже цвет, потерянный при рождении новой любви. Теперь между ними была не только душевная близость — они сроднились и душой и телом.
Стоя под струями воды, они ловили их губами — их иссушила любовь, в них не осталось ни капли влаги, — а потом жадно искали губами любимые губы: не могли насытиться друг другом. И в конце концов снова оказались на полу. Вода хлестала из душа, заливая фиолетово-голубой мозаичный пол, а они не замечали этого — для них сейчас существенней только губы, руки, вздохи, слова и красноречивое молчание.