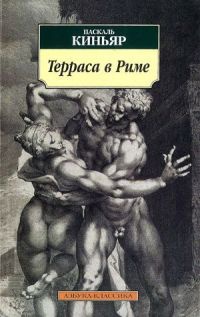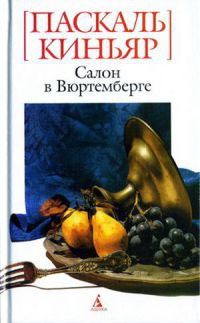В десять часов они тронулись в путь. Дождь лил как из ведра. Наконец манифестанты добрались до замка. Лицо тетушки Отти, с головы до ног закутанной в свой К-Way,[55]сияло от радости под пластиковой косыночкой в розовый горошек, укрывавшей от ливня ее шиньон. Демонстрация явно проходила успешно: целых семь участников, считая их самих. Здесь были местный кюре, мясник, две представительницы лиги феминисток и рокер с зелеными волосами, прикативший из Орлеана.
Она бежала по пляжу в ночной рубашке, стаскивала рубашку через голову, швыряла на мокрый песок и плыла прямо к плоту.
Роза ван Вейден относилась к той категории женщин, которые могут спать где угодно. В любое время, хоть четверть часика. На диване. В машине. За столом. На пляже у воды. Она злоупотребляла спиртным, ей вечно не сиделось на месте.
Эдуард все же позвонил Лоранс. Они заключили мирный договор. Вернувшись в Киквилль, он был представлен малютке Адриане, рыженькой и крайне степенной четырехлетней девочке с пухлыми красными щечками. Она была одета в короткое легкое серое платьице и держала в руках маленькую красную сумочку из пластика – миниатюрную копию сумки своей матери. Она не захотела подойти к Эдуарду. Как не пожелала и раздеться. Она смирно сидела на куче бурого песка у самой воды и созерцала морские волны. Вероятно, она представляла себя по очереди то морем, то пеной, то мусором, качавшимся на волнах; услышав крик чайки или собачий лай, она испуганно вздрагивала. Ее оглушал шум волн, которые море с сотворения мира разбивало о берег. Она дернула Эдуарда за рукав свитера – он носил свитер, и это в июле-месяце!
– Гляди что я тебе покажу, – сказала она. – Сейчас я кувыркнусь.
Она присела на корточки. Мягкое летнее платьице вздулось пузырем и опало, прикрыв ей ножки и опустившись бело-серым кругом на влажный песок. Адриана вытянула свои маленькие руки, положила их ладошками на песок, подняла задик и… свалилась на бок. Но тут же вскочила, ужасно разозленная, и убежала.
Он глядел, как она бежит по пляжу, спотыкаясь от злости; как болтается, не в такт ее шажкам, красная сумочка.
Оседлая жизнь в течение нескольких дней – такого Эдуард не помнил с самого детства, со времен пансиона, когда он, вернувшись в Антверпен, впал в депрессию. Ему было тогда восемь лет; две недели подряд его лечили сном, а потом отправили в католический пансион Эрекена. Три дня на одном месте, в Киквилле, – это было равнозначно пансиону. Тому самому пансиону в Эрекене. Однажды ночью, лежа возле Лоранс, он проснулся от воспоминания об Эрекене. И услышал звон будильника. Этот звук напоминал кряхтение древней кофейной мельницы, натужно перетирающей зерна. Эдуард, сам не зная почему, возненавидел его. Он встал, пошел на кухню. И вышвырнул будильник в мусорное ведро. Потом вернулся в постель к Лоранс.
Лоранс плохо себя чувствовала. Отец звонил ей и торопил с приездом к нему в Марбелью, но Лоранс боялась, что ей там будет слишком жарко. Она и так страдала от зноя, обрушившегося на Ла-Манш. Эдуард заснул рядом с ней. Она встала.
В кухне Лоранс, обливаясь горючими слезами, вытащила будильник из кучи мусора и объедков, отмыла его, отчистила, завела. Это был подарок ее отца. Эдуард просил у нее прощения. Она наотрез отказалась простить его. Он отправился в магазин и купил ей радиобудильник, сверхсовременный и сверхбезобразный. Преподнес его Лоранс. Она развернула нарядный пакет, с ненавистью взглянула на подарок, приказала Эдуарду следовать за ней в кухню, открыла мусорное ведро, торжественно швырнула в него будильник и, обернувшись, молча посмотрела ему в глаза.
– Да, ты умеешь прощать, – сказал он.
Они вышли из кухни. Адриана, носившаяся по двору на велосипеде с литыми шинами, едва не врезалась в них, лихо развернулась на гравиевой дорожке, пересекла мокрый газон и скрылась за домом.
– Ты никогда не думаешь о других, – говорила она ему. – Ты не думаешь обо мне. Ты равнодушный человек. Нет, ты бездушный!
– Я и не собираюсь думать о других. И не собираюсь уподобляться другим. И лезть им без мыла в душу. И думать за них. И командовать ими. Я стараюсь думать только о себе и не допустить несчастья. Не люблю несчастий.
– Ты любишь так, как младенец любит есть, пить, возить по полу машинки, спать, получать удовольствие… А мне не нужен целлулоидный голыш.
Эдуард уже повернулся к ней спиной и направился к дому. Она побежала за ним. Схватила за плечо.
– Прости меня! Ну прости! Но отчего же ты так равнодушен?
Он потребовал, чтобы она извинилась за слово «целлулоидный». Она согласилась извиниться за слово «целлулоидный». Но он решительно отрицал обвинение в равнодушии.
– Я уверен, что способен на любовь. По крайней мере, я уверен, что когда-нибудь смогу полюбить по-настоящему. Что-то укажет мне на это, я уверен. Я все время ищу кого-то. Мне трудно объяснить это чувство. Я ищу. Может быть, тебя. Но я не знаю точно, тебя ли. Просто знаю, что мне будет явлен некий знак, некое имя. Знаю, что однажды внезапно все взорвется и разлетится вдребезги. И тогда придет любовь.
– А как же все твои игрушки: и они взорвутся?
– По-моему, это самое древнее из всех слов любви. Между любовниками ведь тоже происходит взрыв.
– И что же остается?
– Нечто вроде белого осадка, похожего на снятое молоко. Это и есть кровь любви. А теперь я ухожу.
– Ну и уходи!
Лоранс убежала в дом. Прошла прямо в гостиную, раскрыла пианино, взяла оглушительный нестройный аккорд. Вздрогнули и зазвенели хрустальные висюльки четырехсвечных жирандолей, развесивших свои бронзовые ветви на передней панели инструмента.
В это время Эдуард спускался на пляж. Он не стал садиться – стоял, зарыв ноги в обжигающе горячий песок, и смотрел на Розу. Она выходила из моря, отряхиваясь от воды; в каждой капельке сверкало солнце. Издали Роза выглядела самой спортивной из всех знакомых ему женщин, и он любовался ее великолепным, стройным, мускулистым телом, темным от загара, блестящим от воды. Только маленькие крепкие груди и шея были чуть светлее и казались красноватыми на солнце.
Это тело было воплощением жизни, силы, света, наслаждения. Роза подошла к нему, схватила полотенце, высморкалась, протерла глаза, улыбнулась ему. И подумала, вытираясь: «До чего же он тощий!» Она крикнула:
– Лоранс!
Лоранс шла к ним в джинсах и белой майке, с нотами под мышкой; ее голову прикрывала широкая соломенная панама. Лоранс взглянула на Эдуарда:
– Ты еще здесь?
– Да. Прекрасная погода.
– Только спится плохо. Слишком жарко, – заметила Роза.
– Жарко никогда не бывает «слишком», – возразил Эдуард.
– У меня сейчас период бессонницы, – сказала Лоранс.
– У меня период бессонницы, – повторил Эдуард, садясь на песок.