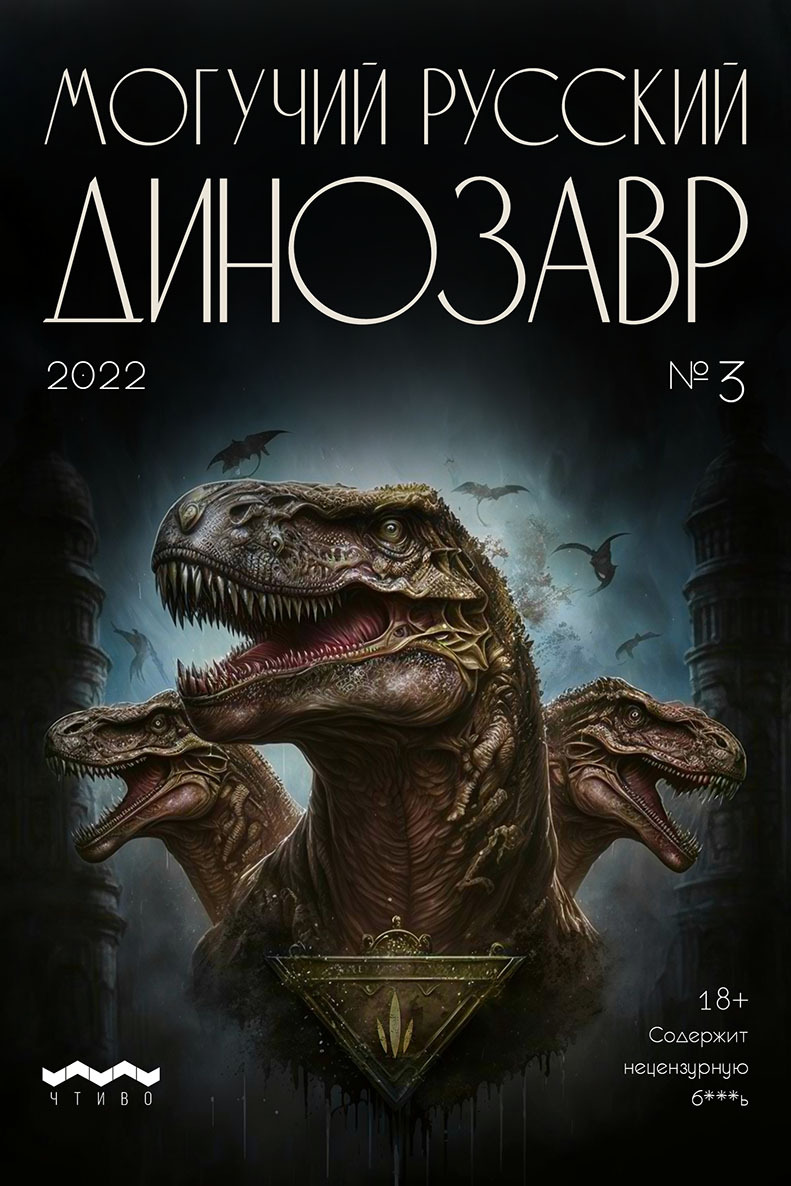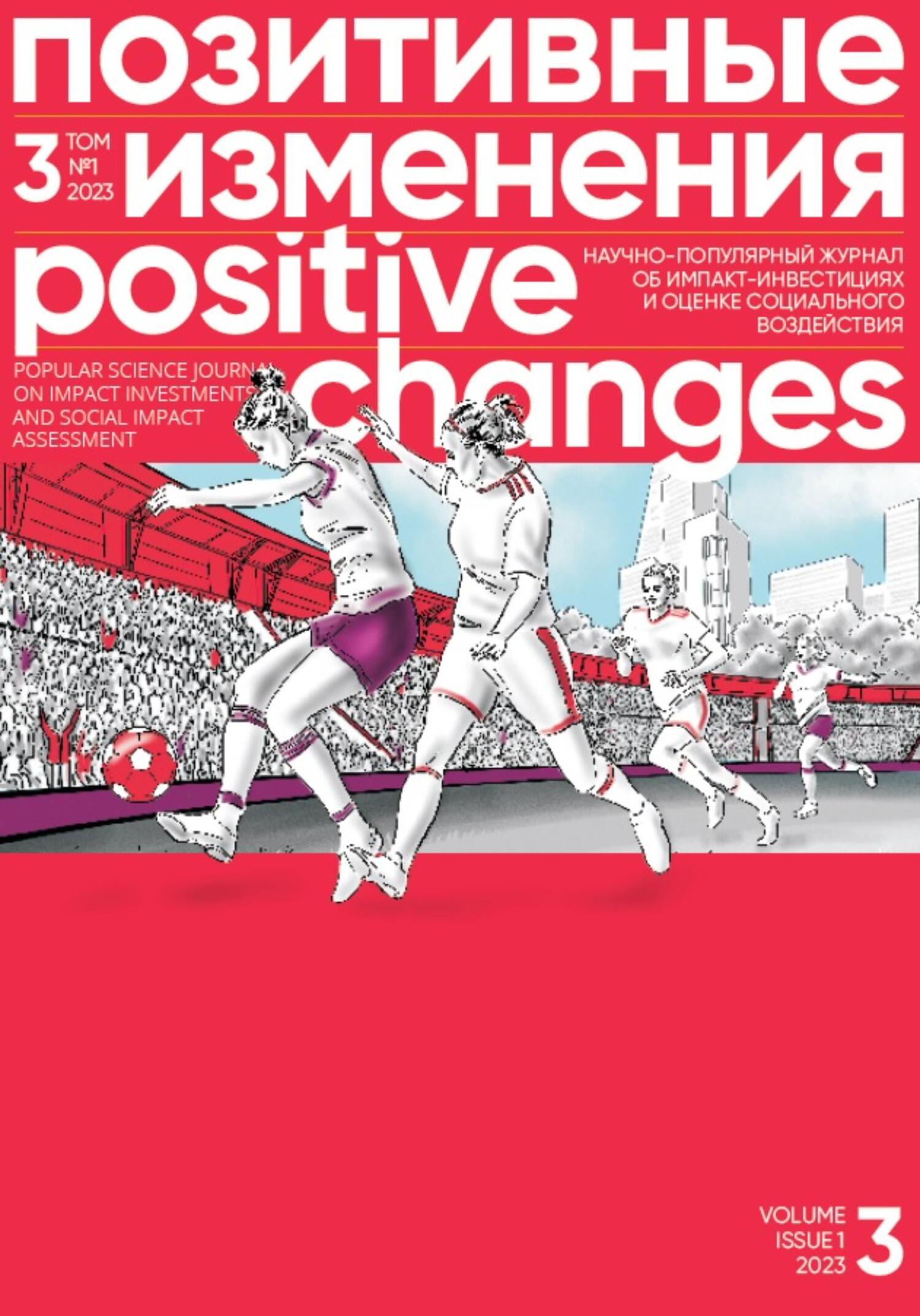Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 198
или Мёллера), с помощью естественного или искусственного отбора изолировать мутантные линии (по Дарвину), а затем скрещивать их особей между собой, чтобы закрепить мутацию (как Мендель и де Фриз). Но Лысенко убедил себя и своих советских начальников, что «перевоспитал» зерновую культуру лишь за счет помещения ее в определенные условия и этим изменил присущие ей от рождения свойства. Он отвергал само понятие генов[394], заявляя, что его «изобрели генетики» в угоду науке «отмирающей, разлагающейся буржуазии», а «в основе наследственности не лежит никакого особого самовоспроизводящегося вещества». Лысенко воскресил устаревшую идею Ламарка о том, что прижизненные адаптации напрямую переходят в наследственные изменения, – и это спустя десятилетия после того, как генетики указали на концептуальные ошибки ламаркизма.
Теорию Лысенко немедленно взял на вооружение советский политический аппарат. Она обещала новый метод, способный значительно повысить сельскохозяйственное производство в стране, балансирующей на грани голода: «перевоспитывая» пшеницу[395] и рис, можно выращивать зерно в любых условиях, включая суровейшие зимы и жесточайшие засухи. Но, пожалуй, не менее важным было то, что для Сталина и его соотечественников идея «разрушения» и «переучивания» наследственности шоковой терапией была близка идеологически. Пока Лысенко учил растения избавляться от зависимости от почвы и климата, партработники перевоспитывали политических диссидентов, избавляя их от закоренелой зависимости от ложного сознания[396] и материальных благ. Нацисты верили в абсолютное генетическое постоянство («еврей есть еврей») и прибегли к евгенике, чтобы изменить структуру своей популяции. В Советском Союзе верили в возможность абсолютного перепрограммирования наследственности («кто угодно может стать кем угодно») и стремились искоренить все различия, чтобы добиться коллективного благополучия.
В 1940 году Лысенко лишил своих критиков должностей[397], принял руководство Институтом генетики АН СССР и установил тоталитарный контроль над всей советской биологией. Несогласие с его теориями в любой форме – особенно приверженность менделевской генетике или дарвиновской эволюционной теории – было в СССР вне закона. Ученых ссылали в лагеря для «перевоспитания» и переосмысления идей Лысенко («шоковая терапия», как и в случае с пшеницей, должна была убедить инакомыслящих профессоров поменять свое мнение). В августе 1940-го Николай Вавилов, знаменитый генетик и последователь Менделя, был задержан и отправлен в печально известную саратовскую тюрьму за пропаганду «буржуазных» взглядов в биологии (он смел утверждать, что гены не так уж пластичны). Пока Вавилов и другие генетики томились за решеткой, сторонники Лысенко развернули мощную кампанию по дискредитации генетики как науки. В январе 1943 года истощенного и опустошенного Вавилова перевели в тюремную больницу. «Я теперь навоз и больше ничего»[398], [399], – так он представился своим мучителям, а через несколько недель умер[400].
Нацизм и лысенковщина были основаны на радикально противоположных концепциях наследственности – но параллели между двумя движениями поразительны. Хотя нацистская доктрина была непревзойденной по вредоносности, нацизм и лысенковщину связывала одна черта: в обоих случаях теорию наследственности использовали, чтобы сконструировать концепцию человеческой идентичности, которую, в свою очередь, подстраивали под текущую политическую повестку. Нацисты яростно настаивали на неизменности идентичности, советские авторитеты – на ее абсолютной пластичности, но язык генов и наследственности лежал в основе государственности и развития обеих систем. Представить нацизм без веры в незыблемость наследственных свойств так же трудно, как Советский Союз – без веры в их полнейшую стираемость. Неудивительно, что в обоих случаях науку намеренно искажали, чтобы она обслуживала государственные механизмы «чистки». Язык генов и наследственности присваивали ради обоснования и укрепления целых систем государственной власти. К середине XX века ген – или его отрицание – уже превратился в мощный политический и культурный инструмент. Концепция гена стала одной из самых опасных в истории.
Мусорная наука поддерживает тоталитарные режимы. А тоталитарные режимы порождают мусорную науку. Внесли ли нацистские генетики реальный вклад в науку?
Из кучи плевела удалось извлечь всего два зерна. Первое – методологический вклад: нацистские ученые заметно усовершенствовали близнецовые исследования – хотя неудивительно, что вскоре и они выродились в нечто жуткое. Впервые к близнецовому методу обратился Фрэнсис Гальтон в 1890-х. Гальтона, давшего знаменитое название проблеме «природа или воспитание»[401], интересовало, как ученые могли бы отличить влияние одного от влияния другого. Как понять, природа или воспитание определяет ту или иную характеристику – скажем, рост или интеллект? Как разделить среду и наследственность?
Гальтон предложил использовать естественный эксперимент. Он рассуждал так: поскольку у близнецов идентичный генетический материал, то все существенные сходства между ними можно отнести на счет генов, а любые различия будут следствием влияния среды. Изучая близнецов, сравнивая их сходства и различия, генетик может установить точный вклад природы или воспитания в важные черты.
Гальтон был на верном пути, но в его рассуждения закрался критический недочет: он не разделял однояйцевых близнецов, действительно генетически идентичных, и разнояйцевых, простых сиблингов по сути (первые развиваются в результате разделения одной оплодотворенной яйцеклетки и потому имеют одинаковые геномы, тогда как вторые происходят от двух разных яйцеклеток, оплодотворенных разными сперматозоидами, и их геномы различаются).
Из-за этой путаницы результаты ранних близнецовых исследований были неубедительными. В 1924 году Герман Вернер Сименс[402], немецкий евгеник, сочувствующий нацистам, предложил улучшенный вариант близнецовых исследований, четко разделяющий однояйцевых и разнояйцевых близнецов[403].
Дерматолог по образованию и ученик Плётца, Сименс был в числе первых и самых громогласных поборников расовой гигиены. Как и Плётц, Сименс понимал, что генетическая чистка будет оправданной лишь в том случае, если ученые докажут факт наследования признака: стерилизацию слепого можно обосновать только тем, что слепоту он унаследовал. С признаками вроде гемофилии было просто: для подтверждения их наследования близнецовые исследования едва ли требовались. Установить наследственный характер более сложных признаков, таких как интеллект или психические болезни, было намного труднее. Чтобы распутать сети влияний наследственности и среды, Сименс предложил сравнивать однояйцевых близнецов с разнояйцевыми. Ключевой проверкой на наследование признака должна была стать конкордантность – доля близнецов, сходных по интересующему признаку[404]. Если цвет глаз у близнецов совпадает в 100 % случаев, то конкордантность этого признака равна 1. Если в 50 % – то 0,5. Конкордантность – удобная мера влияния генов на признак. Если, к примеру, по признаку шизофрении в парах однояйцевых близнецов наблюдается высокая конкордантность, а в парах разнояйцевых, родившихся и выросших в одной среде, – низкая, то можно не сомневаться, что корнями это заболевание уходит в генетику.
Нацистские евгеники использовали эти ранние исследования как основу для более радикальных экспериментов. Самым ярым приверженцем таких экспериментов был Йозеф Менгеле – антрополог, ставший сначала врачом, а затем офицером СС. Облаченный в белый халат, он терзал узников
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 198