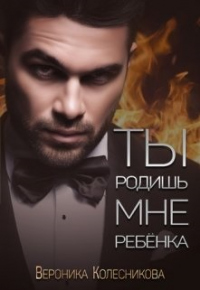Несмотря на молодость, Таню в коллективе уважали: начальству нравилась ее надежность, дисциплинированность, полное отсутствие аморалки — по крайней мере такой, которая отражалась бы на работе. К тому же в последний год она проявила себя и по общественной линии — взяла второе место на городском конкурсе художественной самодеятельности, за что ей вручили часы и почетную грамоту, а управлению — вымпел. Рядовым же работягам нравилась ее сноровка, умение спокойно постоять за себя и за своих перед начальством.
Женщины ей чуть-чуть завидовали. Мужики не приставали и другим не велели — понимали, что она не совсем их поля ягода. К тому же все знали, что она «ходит» с крановщиком Игорем. А на чужой каравай…
Этот Игорь был бы поразительно красив, если бы его лицо не портил перебитый, искривленный нос. Был он парень тихий, немного глуховатый, чрезвычайно интеллигентный, студент-вечерник строительного института. Но его уникальность заключалась не в этом — на стройке работало несколько похожих ребят, — а в том, что Игорь был коренной ленинградец и, по слухам, из очень высокопоставленной семьи. И с чего он полез на башенный кран?
Люди, знакомые с Таней или с Игорем поближе, и в их числе Нинка, знали, что между ними ничего нет — просто Таня дружит с Игорем и его женой Ларисой, которая работала в каком-то институте машинисткой, а теперь сидит с малышом и берет работу на дом.
Таня иногда заезжала к ним в их квартирку на Северном проспекте, которую они снимали почти без материальной поддержки родителей. Она помогала Ларисе по хозяйству, возилась с малышом. Глядя на розового, упитанного Стасика, она нередко вспоминала Петеньку, и подступали слезы… Потом они ужинали или просто пили чай, болтали о том о сем, слушали музыку. Раза три или четыре Таня приходила туда в «большие гости». У Игоря с Ларисой были очень интересные друзья — студенты, молодые художники, музыканты. Все они держались с Таней совершенно на равных, и она с грустной благодарностью вспоминала Женю и его уроки… После его ухода ей было плохо, совсем плохо. Будто острая льдина пронзила сердце, оттаивая по ночам, сводя с ума муками. А теперь ничего. Отболело…
Нинка с Таней забежали на объект, посмотрели, что там и как, там же переоделись в спецовки — благо, до халтуры только двориком пройти, — запихали в сумки уличную одежду, Таня оставила девочкам распоряжения на всякий случай, объяснила, где ее найти, если что, и они пошли на квартиру. Нинка зашла первой, поздоровалась с хозяйским сынком. Таня вошла следом и разглядела только тощую убегающую спину да трусы в цветочек.
Управились они довольно быстро. Нинка села отдыхать, а Таня от нечего делать собрала оставшийся от их трудов мусор, в несколько заходов вынесла его на помойку, протерла по первому разу пол в гостиной и ванной — чтобы грязь не разносить. Нинка ворчала — не баре, мол, сами приберут. Но Таня это дело за труд не считала, а оставить после себя хоть какую-то чистоту было даже приятно.
Потом Таня отмыла от мела ванну, разделась, достала из сумки платье и туфельки, завернула в газету спецовку и брезентовые брюки, уложила в сумку, сняла с себя белье и с удовольствием встала под душ.
Нинка тем временем поставила чайник, чтобы, дожидаясь хозяев, побаловаться их же чайком. Пошуровав по полкам и в холодильнике, она нашла пряники, варенье, колбасу, примерно треть роскошного шоколадного торта. Красиво расположив все это на кухонном столе и от души сыпанув индийского чаю «со слоном» в фарфоровый чайничек, она накрыла его матерчатой куклой, чтобы доходил, а сама отправилась под душ на смену Тане.
Намывалась она долго. Таня посидела в кухне, налила себе вкусного чаю, пожевала колбасы. Потом долила большой чайник, поставила на газ.
И тут позвонили в дверь.
«Кто-то из хозяев», — решила Таня и пошла открывать.
На пороге стоял худенький очкастый мальчик — именно мальчик, хотя на вид он был, пожалуй, года на три старше самой Тани. Он смотрел на нее с таким глупо-растерянным выражением, что Таня невольно улыбнулась.
— Проходите же, — сказала она. Мальчик не шелохнулся.
— А, кавалер пришел! — грохнула за ее спиной Нинка. — А мы как раз чаевничать собрались!
Таня посторонилась. Мальчик робко вошел, не сводя с нее глаз.
За ним, отнюдь не так робко, вошел другой, покрепче и повыше, светловолосый, с реденькой бородкой. Легонько подтолкнув первого, он снял с плеча тяжелую сумку и с веселой, заразительной улыбкой посмотрел на Таню и на Нинку, которая улыбнулась в ответ. Кругленькая, намытая, в обтягивающей мини-юбке и модной блузочке, с чалмой из цветастого полотенца на мокрой голове, она выглядела чрезвычайно аппетитно.
— Боже, — сказал светленький, обращаясь к очкастому мальчику, — а они уже тут, как сказал пьяный монах, попавши в ад. Что ж ты, тютя, не предупредил, что у тебя тут романтизьм прямо на дому… Разрешите представиться, Андрей Житник, друг дома и лично вот этого гаврика.
— Нина. — Нинка кокетливо протянула Андрею ладошку с оттопыренным мизинчиком.
— Таня, — помолчав, сказала Таня.
— Тут кто-то что-то говорил про чай, — сказал Андрей и, не выпуская из своей крепкой руки Нинкину ладошку, устремился в кухню, увлекая за собой смеющуюся Нинку. — А ты там извлеки вишневочки, в моей сумке, кажется. С чайком оно оченно способствует! — кричал он Ванечке уже из кухни.
Ванечка стоял столбом у вешалки, не выпуская из рук свою сумку и не сводя глаз с Тани.
— Разрешите, — сказала Таня, шагнув к нему и забирая сумку из рук. Пальцы их соприкоснулись. Ванечка вздрогнул, отвел глаза и пробормотал:
— Конечно… Я… вы… идите, пожалуйста, на кухню… Я сейчас.
Стрела коварного Амура зацепила сразу все незащищенные места.
VI
В сфере воспитания чувств Ванечка Ларин был продуктом советской системы в ее реально-бытовом преломлении — между молотом официоза во всех его проявлениях и наковальней дворов и подворотен. Со страниц газет и советских книг, с экранов телевизора и с учительских кафедр восприимчивому Ванечке устойчиво навязывался стереотип некоего коммунистического монаха, сублимирующего энергию пола в энергию высшего служения, презрительно отвергающего физическую любовь, а любовь идеальную воспринимающего исключительно в свете высшей любви — к родной Коммунистической партии и лично к товарищу Леониду Ильичу Брежневу. В отечественных фильмах и книгах допускались лишь самые туманные намеки относительно плотской близости мужчины и женщины, а из иностранных произведений подобные сцены вымарывались, вырезались или сглаживались до полной неузнаваемости. Сколько, например, громов обрушилось в прессе на одного заслуженного и вполне советского писателя не за откровенное описание даже, а за хвостик фразы: «…и рухнули в высокие травы». Как же можно, положительные, социалистические мужчина и женщина, передовики производства, каждый со своей семьей, и вдруг — в какие-то там травы?! Чему он учит молодежь? Роман изъяли из библиотек и больше не издавали. Соответствующим образом интерпретировалось и классическое искусство, многие памятники которого просто объявлялись как бы несуществующими — по причине своего «порнографического» содержания. Это культурно-воспитательное фарисейство имело своих проводников во всех сферах жизни, а тем более в советских школах, как бы специально для этого созданных.