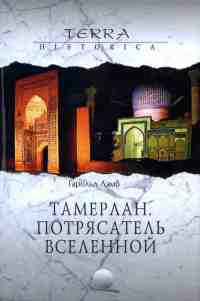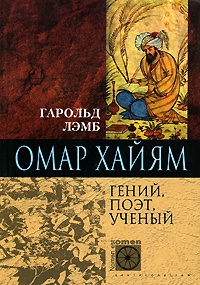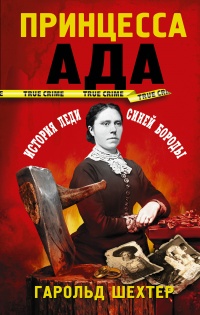Разъезжие продавцы индульгенций торговали своим товаром вопреки церковным законам, но церковь им определенно попустительствовала. Как люди светского звания, продавцы не должны были проповедовать, но тем не менее делали это, и Чосеров Продавец — отменный проповедник, превосходящий всякого телеевангелиста, ныне выступающего в Америке. Исследователи расходятся во мнениях насчет сексуальной природы Продавца: евнух ли он, гомосексуал, гермафродит? Рискну предположить, что ни то, ни другое, ни третье; так или иначе, Чосер позаботился о том, чтобы мы этого не знали. Сам Продавец, может быть, и знает; мы и в этом не можем быть уверены. Он гораздо более сомнительная личность, чем любой другой из двадцати девяти паломников, но также гораздо умнее любого другого из них — в этом отношении он почти соперник Чосеру, тридцатому паломнику. Дарования Продавца столь внушительны, что мы невольно задумываемся о его предыстории, о которой он нам ничего не говорит. Злостный лицемер, наживающийся на фальшивых святынях и смеющий сбывать из-под полы искупление во Христе, он тем не менее — обладатель подлинно духовного сознания и мощного религиозного воображения.
Сердце тьмы, метафора обскурантизма у Джозефа Конрада, — образ, как нельзя лучше идущий к демоническому Продавцу, который соперничает со своими литературными потомками; он — нечто вроде бездны, приводящей нас в замешательство; он безнравствен и при этом в высшей степени художествен. Чосеровед Р. А. Шоф прекрасно говорит о Продавце: «Его ремесло — ежедневно продавать себя, свой „номер“; но, судя по картине его одержимости, он это понимает, потому что сожалеет, что не может выкупить себя обратно». Он понимает: какими бы потрясающими ни были его спектакли, своих грехов он ими не искупит, и, размышляя над его увещеваниями и его рассказом, мы начинаем подозревать, что не одни алчность и гордость сильного проповедника сделали его профессиональным обманщиком. Нам никогда не узнать, благодаря чему в себе Чосер сумел создать этого первого — по крайней мере, в литературе — нигилиста, но я вижу подсказку в типическом парадоксе Г. К. Честертона:
Джеффри Чосер был именно то, чем не был «добрый Продавец индульгенций» — он был добрый Продавец индульгенций. Однако мы составим неверное представление обо всех членах этого любопытного и достаточно сложного общества, если не осознаем, что их разнообразная эксцентричность была в каком-то смысле связана с единым центром. Официальное корыстолюбие дурного Продавца индульгенций и весьма неофициальное добродушие хорошего Продавца индульгенций шли от своеобразных искушений и дипломатических тонкостей одной и той же религиозной системы. Это происходило потому, что это была — в пуританском смысле — непростая система. Даже куда более серьезные умы, чем Чосеров, были привычны к тому, чтобы видеть, так сказать, две стороны греха; бывает простительный грех, в своем окончательном направлении разительно и невыразимо отличный от греха смертного. Злоупотребление различиями такого рода породило искажения и коррупцию, что наглядно явлены нам в приятном образе Продавца индульгенций; породило практику индульгенции, выродившуюся из теории индульгенции. Но в то же время употребление подобных различий позволило такому человеку, как Чосер, однажды обрести привычку мыслить взвешенно и тонко, привычку смотреть на вещи со всех сторон; обрести способность сознавать, что даже некое зло имеет право на свое место в иерархии зла, сознавать, по крайней мере, что в бездонной относительности Ада и Чистилища есть что-то еще меньше подлежащее оправданию, чем Продавец индульгенций.
Честертон приписывает Чосеру перспективизм, возможный лишь потому, что средневековая действительность была вся проникнута католической верой. Невзирая на свое происхождение, в поэтическом отношении этот перспективизм важнее веры. Его амбивалентность выпустила на волю Продавца, образ, знаменующий собою предел Чосеровой иронии. В общем, Чосер — настоящий комический поэт в нашем (шекспирианском) понимании комического. Пролог и рассказ Продавца — не комические, а убийственные. Он, по его собственным словам, «развратен и порочен», но он еще и гениален, иначе и не скажешь — как о Продавце, так и потом о Яго. Подобно Яго, Продавец сочетает в себе таланты драматурга (или рассказчика), актера и режиссера; опять же подобно Яго, Продавец — одновременно превосходный специалист по моральной психологии и первопроходец в области психологии глубинной. Продавец, Яго и Эдмунд околдовывают своих жертв, включая нас с вами. Все трое открыто объявляют о своей лживости — но только нам или, в случае Продавца, замещающим нас Кентерберийским паломникам. Их упоение силой своего ума и своей порочностью пленяет нас, как неизменно пленяет возвышенная литературная возмутительность. Негативная наполненность жизнью Продавца, Яго и Эдмунда не менее привлекательна, чем позитивная — Ткачихи, Панурга и Фальстафа. Мы реагируем на энергию, как отметил Хэзлитт в эссе «О поэзии вообще»:
Мы созерцаем происходящее сами и представляем его другим в том свете, в каком видим его, в каком, вопреки своему желанию, вынуждены его видеть. Так воображение, воплощая и определяя очертания окружающего нас мира, облегчает невнятные и неотвязные устремления. Пусть мы не приемлем то или иное положение вещей, однако хотим, чтобы оно предстало в истинном свете; ибо в полноте осведомленности заключена сознательная сила, а она не допускает заблуждений, хотя разум и может оказаться жертвой порока и безрассудства[155].
О Яго Хэзлитт писал: «Ему столь же, или едва ли не столь же, безразлична своя судьба, сколь судьба других; он идет на риск ради малой и сомнительной выгоды; и он сам остается в дураках, делается жертвой владеющей им страсти» — все это в той же мере относится и к Продавцу. Яго и Продавец «заражают» нас, и Шекспир с Чосером хорошо это понимали. Нас восхищают изделия Продавца, его «святые реликвии» — ларцы с лоскутами, костями, чудодейственными рукавицами. Мы разделяем и воодушевление, с которым он открещивается от всяких моральных последствий своего проповедничества:
Руками я и языком болтаю Так быстро, что и поглядеть-то любо. Им скупость, черствость я браню сугубо, Лишь только б их мошну растормошить И мне их денежки заполучить. Мне дела нет, пускай, когда схоронят, Душа иль плоть в мученьях адских стонет[156].
Мы радуемся, когда слышим это и, слыша, видим. Еще сильнее мы радуемся, читая блестящий рассказ Продавца, в котором трое гуляк, забубенных головушек — в наши дни это были бы мотоциклисты из «Ангелов Ада», — отправляются убивать саму Смерть; в стране чума, и за Смертью далеко ходить не надо. По дороге они встречают невероятно старого бедняка, который хочет одного — вернуться к своей матери-земле:
Стучу клюкой на гробовом пороге, Но места нет мне и в земле сырой, И обращаюсь я к тебе с мольбой: «Благая мать! Зачем ко мне ты строже, Чем к остальным?..»[157]
Детины угрожают ему, и диковинный старик показывает, где им найти Смерть, принявшую вид кучи золотых монет под дубом[158]. Двое, сговорившись, закалывают третьего, но сначала он предусмотрительно отравляет их вино. Пророчество старика сбывается, но нам остается лишь гадать о том, кто же он такой. Чосер явно придумал его сам[159], и это означает, что внутри «Кентерберийских рассказов» тот — порождение гения Продавца. Старый скиталец, который, похоже, заодно со смертью, но при этом сам не может умереть, хотя и хочет этого, направляющий других к богатству, которое сам он то ли презирает, то ли отринул, — исследователи небезосновательно возводят этот образ к легенде о Вечном Жиде. Боится ли Продавец, сознательно обрекающий себя на вечные муки, сделаться таким же скитальцем? В качестве проекции Продавца странный старик выявляет голословность его похвальбы тем, что заниматься обманом его побуждает лишь алчность к деньгам. По-настоящему Продавца влечет к саморазоблачению, самоуничтожению, самообличению. Он одержим роком — и ему нужно отсрочить отчаяние и самосожжение, приняв маленькую смерть от унижения от рук прямодушного Трактирщика на виду у всех паломников.