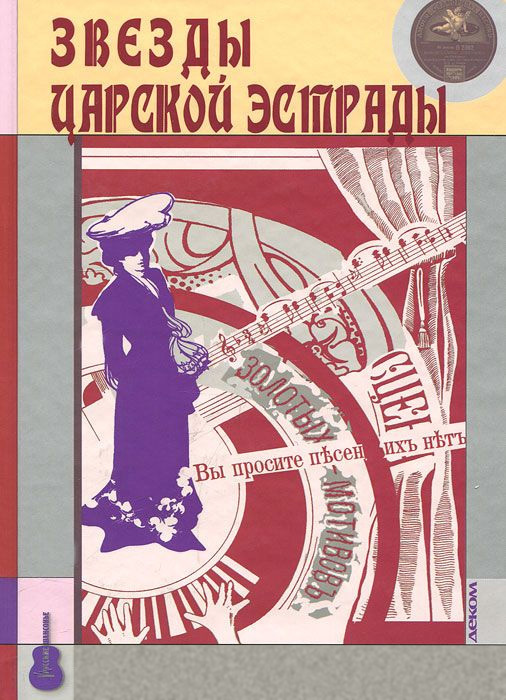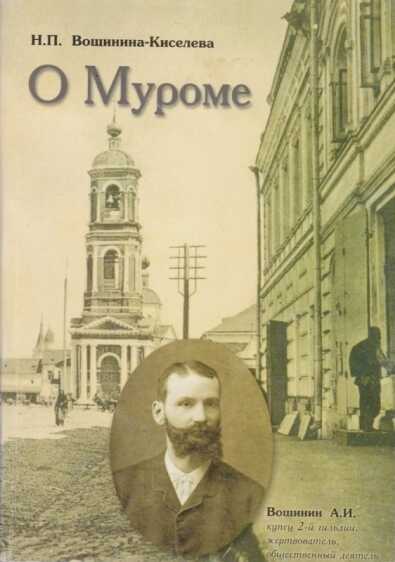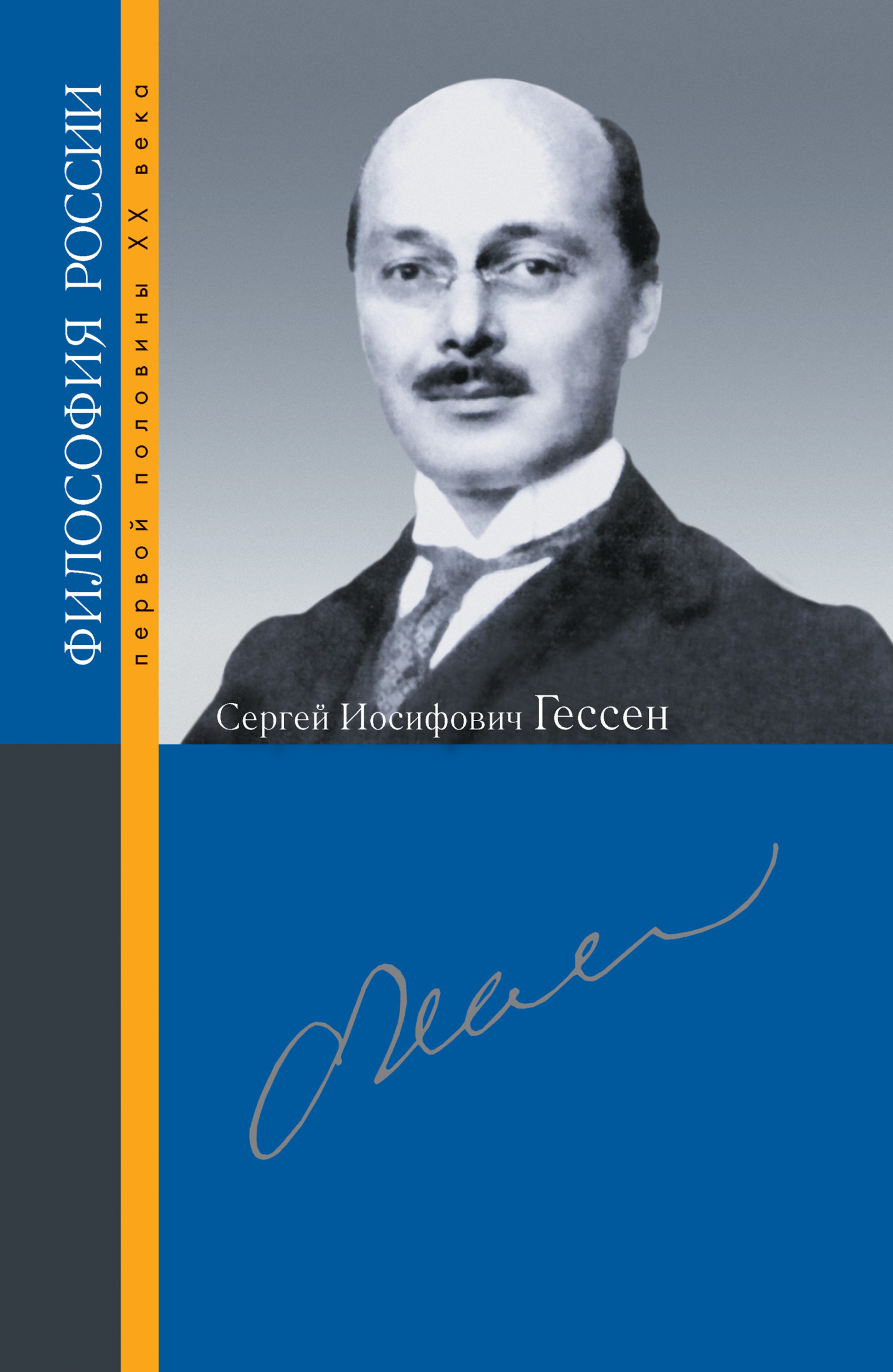ее так же велико, как и ее царственного брата.
Великая княгиня старалась делать так, чтобы все забывали, что она высочество, но она оставалась высочеством, истинным высочеством.
Я пела, потом начались игры в жмурки, прятки, жгуты – эти милые, всем известные игры.
Помню, великая княжна Анастасия побежала за мной со жгутом, а я от нее, – поскользнулась да растянулась на паркете. Царевна помогла мне подняться, наступила на мое платье, оно затрещало да разорвалось.
Великая княгиня Ольга Александровна мягко заметила тогда мне, что лучше было бы надеть простое платье, как она и советовала в письме.
После игр великие княжны отбыли в Царское Село, а мы были приглашены к обеду.
На прощанье принц Петр Александрович Ольденбургский просил меня спеть его любимую песню и, растроганный, не зная, как меня благодарить, схватил цветы, украшавшие чайную горку с пирогами, и засыпал землей все торты, все сладости.
Мне памятен этот день во дворце, эти цветы: в тот день я впервые встретила там того, чью петлицу украсил один из этих цветов, того, кто стал скоро моим женихом.
22 января 1915 года на полях сражений в Восточной Пруссии пал мой жених смертью храбрых.
* * *
Весной я пела в Ливадии.
Я и мои друзья втайне беспокоились, что государыня не оценит простых русских песен.
В десять часов вечера, после обеда в большом дворцовом зале, я ожидала наверху выхода их величеств.
Тогда в Ливадии гостил брат государыни. Ровно в десять раскрылись двери, и вошел государь под руку с государыней. Ее брат повел ее к приготовленному креслу, а государь подошел ко мне. Он крепко сжал мою руку и спросил:
– Вы волнуетесь, Надежда Васильевна?
– Волнуюсь, ваше величество, – чистосердечно призналась я.
– Не волнуйтесь. Здесь все свои. Вот постлали большой ковер, чтобы акустика была лучше. Я уверен, что все будет хорошо. Успокойтесь.
Его трогательная забота сжала мне сердце. Я поняла, что он желает, чтобы я понравилась государыне.
Сначала я так волновалась, что в песне «Помню, я еще молодушкой была» даже слова забыла. Зарема мне подсказал. После третьей песни государыня послала князя Трубецкого осведомиться, есть ли у меня кофе. Все присутствующие знали, что это милость и что я нравлюсь ее величеству.
В антракте государыня беседовала со мной, говорила, что грустные песни ей нравятся больше, высказала сожаление, что ей раньше не удавалось послушать меня.
Государыня была величественна и прекрасна в черном кружевном платье, с гроздью глициний на груди.
Государь подошел ко мне с Ольгой Николаевной. Он пошутил над моим волнением, из-за которого я забыла слова, и похвалил Зарему за то, что он подсказал. Государь сказал, что он помнит мои песни и напевает их, а великая княжна подбирает на рояле мои напевы.
Я ответила, что все мои напевы просты, музыкально примитивны.
Государь убедительно сказал:
– Да не в музыке дело – они родные.
А на другой день я получила из Ливадии роскошный букет. Тогда же старый князь Голицын[39] принес мне букет фиалок в старинном серебряном кубке. Как известно, у него была коллекция редких кубков.
Князь был веселый чудак: ходил он в старой крылатке, а ездил в Ливадию на самых обтрепанных извозчиках.
Стояли ясные дни, и я думала подольше остаться в Крыму, но одна странная телеграмма вызвала меня в Москву.
* * *
В Москве мой лакей-китаец чуть не убил кухарку за то, что та послала его «к чертовой матери».
– Как, – крикнул китаец, – моя мамка черт!
И пустил в кухарку тяжелой доской из-под сыра. Кухарку свезли в больницу, а меня просили спешно приехать домой.
Я тогда пожалела, что завела большой штат прислуги. С ними было столько хлопот! Я уезжала в турне уставать от концертов, а они от безделья ссорились, и дома, вместо отдыха, я должна была разбирать их распри.
Разбаловала я их так, что, когда выдавала замуж свою горничную Соню, набила ее сундуки всяким добром, вплоть до бриллиантовых серег, а Соня все плачет. И узнала я, что плачет она оттого, что ей не нравится дареная мной шуба, с воротником из куницы, а хочется иметь каракулевый сак.
После свадьбы Соня пригласила меня к себе, и тогда-то я поняла, за какую дуру меня почитала прислуга. Квартира молодых была обставлена моими вещами, висели занавески мои на окнах, на полочках стояли подстаканники мои. Все было взято у меня без спроса.
Я сгорела от стыда за людей, от которых ничего не запирала, и стала дома проверять вещи; многого недосчиталась и, сидя в спальне, разлилась горючими слезами, жалея не вещи, а людей, что должна их считать нечестными и вешать на двери замки, чего раньше не делала, дабы не унизить их человеческого достоинства.
Помню я еще сестру милосердия, которая прожила у меня год и, уезжая, набила чемоданы моими вещами.
– Вы меня за год узнали? – спросила я сестру.
– Да, узнала.
– И если бы вы попросили у меня эти вещи, отдала бы я их вам?
– Отдали бы, – ответила смущенная сестра.
– Тогда зачем же вы брали все это без моего ведома?
Сестре было, по-видимому, и невдомек, что я страдаю не за себя, а за нее.
Все это, конечно, мелочи, но все это жизненная учеба. А учеба была у меня такая суровая, что я иногда думала, что правда и красота только там, наверху, где мерцают чистые звезды, и вообще там, где нас нет.
Так менялось мое отношение к людям.
* * *
После концерта в Ливадии государыня пожелала, чтобы я навещала ее школу рукоделия в Петербурге, где работали молодые девушки из всех российских губерний.
Я туда и наезжала, и посылала девушкам на свои концерты билеты.
Бывать в доме рукоделия я любила. Там все по старине, все как в тереме: в обширных мастерских белолицые, румяные девушки с длинными косами, в сарафанах. За станками – ткачихи, за пяльцами – вышивальщицы и кружевницы. Глаз не оторвать от ярких ковров и узоров. Там я засиживалась подолгу у гостеприимной начальницы мастерской. А провожая меня, девушки катились шумной толпой по лестнице, выбегали на улицу и горели яркими цветами на белом снегу.
И теперь сохранилась у меня набойчатая, шитая скатерть, подарок этой мастерской. Скатерть как старый друг со мной.
* * *
Вспоминаю еще в Москве Бородинские торжества…[40] Разве можно забыть, как гудела Москва, как гостей дорогих принимала она?
Разве можно забыть тот поток москвичей, что залил, запрудил всю от края до края Москву? Да как