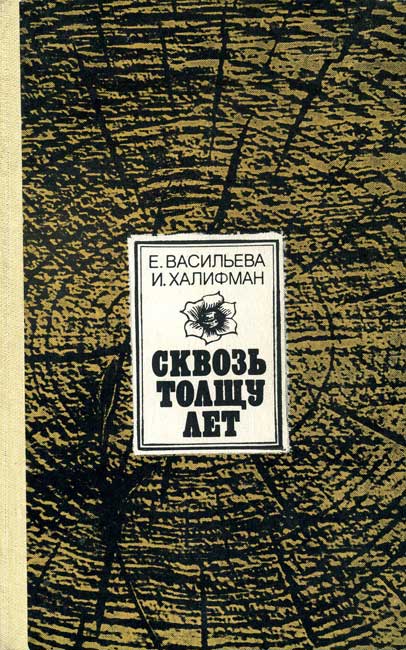самом деле их на машинах вывозили за Краснодон, к старой шахте, наспех расстреливали и сбрасывали в глубокий шурф, мёртвых вместе с недобитыми.
Десять дней просидели в тюрьме жена брата и Елена Петровна Соколан. Не добившись ничего, полиция выпустила их.
Брату Николаю на четырнадцатый день удалось убежать вместе с комсомольцем Колотовичем. Вот как это произошло.
Красная Армия подходила всё ближе. Уже отчётливо была слышна грозная канонада, всё чаще налетали наши самолёты.
Немцы и полиция лихорадочно готовились к бегству. Во двор тюрьмы приходили полицейские и из других районов. Этим и воспользовался Николай. Ночью он отогнул проволоку на запоре, открыл дверь камеры. Перед этим он надел на рукав белый платок, похожий на полицейскую повязку. Потом они с Колотовичем вышли во двор и смешались там с полицейскими из других районов.
Потом побежали. По ним открыли стрельбу и бросились в погоню. Колотович упал. Казалось, всё было потеряно. Но Николай всё бежал и сумел далеко уйти. Забежав за чей-то двор, он увидел пожилого шахтёра. Они поздоровались. Николай сказал:
— Вот… уходят немцы.
— Да, видать, что дело такое.
— Не разберёшь, что лучше: остаться или с немцами уходить?
— Это уж как кому сподручнее.
— Мне не сподручно. Кстати, вон они и гонятся за мной…
Шахтёр пытливо взглянул на дядю Колю, ничего не ответил, а лишь мигнул на погреб и прошёл мимо. Николай бросился к погребу.
Немцы обыскали всё, стреляли в погреб, но спуститься не захотели.
Больше суток пришлось отсидеть брату в погребе. Жена шахтёра, — как потом мы узнали, Степана Афанасьевича Чистолинова, — принесла ему кувшин воды и пышки из бурака. Но больше всего он был рад самосаду.
К вечеру следующего дня брат ушёл.
Таким образом, наши хождения в тюрьму с передачами прекратились. Но немцы опять сами часто проведывали нас — всё надеялись застать Олега или брата.
Двадцать пятого января они не пришли. Я забеспокоилась. То я страшилась, когда они приходили, теперь я ждала их. Приходят — значит, ищут. Не пришли — значит, нашли.
Я кинулась в полицию.
Дежурил молодой, неопытный полицейский. Он, видимо, был в курсе дела молодогвардейцев, но не знал подробностей и фамилий. И я, чувствуя, как у меня холодеют руки и ноги и всё плывёт перед глазами, решилась спросить:
— Кошевой и Коростылёв… есть у вас?
Полицейский, позёвывая, обошёл все камеры, выкрикивая фамилии сына и брата. Никто не отозвался. Я ушла. Но тревога продолжала сушить мою душу. И я не обманулась.
Двадцать девятого января, к концу дня, к нашему дому подъехали сани, запряжённые тройкой лошадей. В квартиру вошли жандармы и полицейские во главе с Захаровым, все пьяные. Захаров крикнул:
— А ну, давай одежду сына — всё, что есть! Да живей у меня!
Я ответила:
— Дома не осталось одежды. Всю её уже забрала полиция…
Захаров презрительно прервал меня:
— Ну-ну! Это такая же правда, как то, что ты не знала, где твой сын.
— И не знала, — ответила я, чувствуя, как пол уходит из-под ног, — и сейчас не знаю.
— Ничего, зато мы знаем.
Я смолчала. Я всё ещё надеялась, что он обманывает меня или просто так мучает, но тут один полицейский удивлённо спросил у Захарова:
— А что, разве Кошевого уже того… поймали?
— Поймали, — осклабился Захаров, свёртывая папироску и не сводя с меня глаз. — Отстреливаться, щенок, вздумал, полицейского ранил. Хорошо, что в нагане у него был всего один патрон…
Когда я пришла в себя, полицейские уже уходили, хлопая дверями. Собрав последние силы, я кинулась за ними, крикнула:
— Олегу… можно еду принести?
— Еду? — переспросил Захаров, криво усмехаясь. — Да его и в Краснодоне-то нет. Вообще нет. Сын твой расстрелян в Ровеньках.
Падая опять, я успела крикнуть ему вслед:
— Палач, будь ты навеки проклят!
Если бы не мама, не знаю, что стало бы со мной. Но я поддалась маминой доброй ласке. Бабушка верила, что внук её жив, что его не возьмёт никакая пуля. И эту непреклонную веру она передала и мне. Вместе с мамой и я стала надеяться. На что? Я этого не могу объяснить. Мы словно чуда ждали…
Пришли!
Потянулись чёрные, длинные дни, длинные бессонные ночи.
Мы жили в крайнем напряжении сил. Что с Олегом? Неужели правду сообщил Захаров? Где Николай? Жив ли он?
В голову приходили самые страшные догадки, но мы старались приободрить друг друга и вслух высказывали только утешительные предположения.
Маленький Валерик то и дело приставал к нам:
— А почему так долго папы нет? Он принесёт мне хлебца? А Олезя (так звал он Олега) скоро придёт?
Отвечая ему, мы, казалось, сами верили в то, что сочиняли.
Как-то рано утром зашла к нам знакомая Лышко, проживавшая в посёлке шахты № 1-бис. Она передала записку от Николая, которая была датирована 25 января. Николай сообщал, что благополучно живёт в погребе, беспокоился о судьбе Олега, передавал приветы родным. Он прятался там три дня, но потом начались облавы, и он ушёл. Куда — Лышко не знала.
И опять — тяжёлые предчувствия, ожидания и надежды…
Немцы приказали нам два раза в день ходить в полицию отмечаться. С востока грозно доносился артиллерийский гул. Фронт был всего в двенадцати километрах от города.
Мы часто следили за нашими самолётами, радовались, когда они бомбили немецкие войска и склады, — мы не боялись этих бомб. Как мы ждали своих!
Первого февраля полиция из Краснодона эвакуировалась в Ровеньки, забрала с собой и арестованных — последнюю партию обречённых на смерть. Среди них были Люба Шевцова, Семён Остапенко, Виталий Субботин и Дмитрий Огурцов.
Но часть полицейских оставалась ещё в Краснодоне, и мы должны были ходить отмечаться. Третьего февраля вызвали в полицию бабушку и снова сильно избили её.
С этого дня я начала прятаться от немцев.
Полиция приходила за мной. Мама сказала, что я пошла в село достать хлеба. Тогда пьяные полицейские начали издеваться над мамой и над маленьким Валериком. Один из них взял ножницы и, хохоча, колол ими трёхлетнего Валерика.
— Мама, мама! — кричал Валерик, и холодным по́том покрывалось его маленькое, высохшее от голода личико.
А фронт всё приближался к Краснодону. Уже восемь километров было между нами и освобождением. Слышна была даже пулемётная стрельба. В Краснодоне с нетерпением ждали своих.
Дни шли, как длинные годы. Сил не было дальше терпеть…
Девятого февраля к нам в квартиру зашёл незнакомый человек. Он коротко сказал, что пришёл из Ровенек, и подал мне записку. Это была записка от Николая.