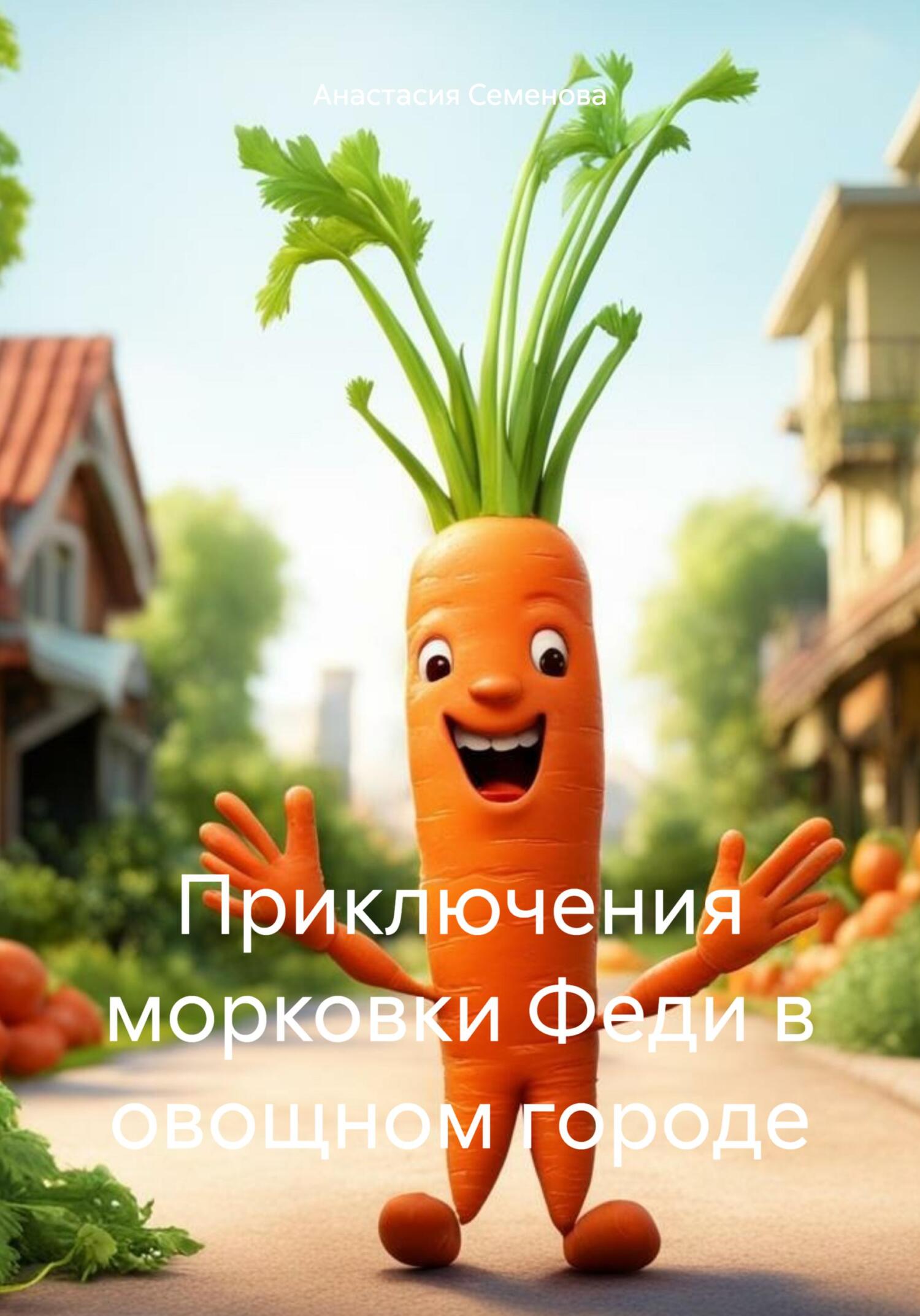ему все же надо. Вяжи его, ребята! — распорядился десятник.
Когда стрельцы вели Хвалова на веревке по нагорной улице, за ними шла толпа народу, которая по мере приближения к площади все росла. Люди уже знали, что пойман еще один злодей — кухонный мужик князя Пожарского, прозвищем Хвалов. За баклагу вина, пару новых сапог, заячью шапку и десять рублей деньгами Хвалов тоже взялся извести князя, но своим способом. Хвалов должен был подсыпать князю Дмитрию Михайловичу яду в кушанье, если бы Стеньке или Обрезке не удалось порешить князя ножом.
Хвалов ковылял, сопровождаемый стрельцами, и его кривые ноги подгибались у него от ужаса. Мальчишек сбежалось поглядеть на злодея видимо-невидимо, и все они улюлюкали, забрасывая Хвалова кусками высохшего коровьего навоза. Наиболее шустрые бежали перед Хваловым, то и дело оборачиваясь, чтобы плюнуть ему в лицо. Стрельцы гнали мальчишек прочь, но стрельцов было только трое, а мальчишек — туча.
Заплеванного, замаранного, обливавшегося холодным потом, стрельцы привели Хвалова на площадь и заставили подняться на крыльцо сборной избы. Хвалов, как только увидел князя Дмитрия Михайловича, тотчас повалился ему в ноги. И услышал голос Минина:
— Езжай, князь Дмитрий Михайлович, с богом. Давно обедать пора. Пообедай и отдохни. Ужо я сам злодеям учиню расспрос, все петли распутаю, все узлы их развяжу.
Дмитрий Михайлович глянул на связанных Стеньку с Обрезкой, кинутых в угол, и встал. Хвалов обхватил руками его сапог и завопил:
— Не погуби, князь Дмитрий Михайлович! Не отдавай меня Козьме. Все скажу, что было и чего не было, что тебе угодно будет. А Козьма палачам меня отдаст, палачи мне головушку ссекут…
Пожарский выдернул свою ногу из рук Хвалова, и Хвалов опрокинулся навзничь. Он лежал на спине, распялив руки и ноги, пошевеливая усом, — ну прямо запечный таракан! Пожарский переступил через него и спустился с крыльца.
Стрельцы (их был теперь целый десяток) поволокли Стеньку, Обрезку и Хвалова в холодную. Они отперли погреб и каждого турнули с лестницы вниз по очереди: сначала Стеньку, потом Обрезку… Последним, обгоняя и Стеньку и Обрезку, турманом завертелся по лестнице Хвалов. Все трое шмякнулись вниз, придавив собой Кузьку с Ерохой, которые лежали в холодной на сырой земле, все еще связанные по рукам и ногам.
Уже не трое стрельцов, а весь десяток остался караулить холодную. Воробей и Сенька пытались заглянуть туда сквозь продух, но там было темно. Они хотели расслышать что-нибудь, но оттуда не доносилось ни звука. Один Хвалов принялся было скулить, но скоро и он замолк.
А на площади трубили трубы, гремели литавры, пели волынки, бубнил и вызвякивал бубен. Головной полк сходил с площади, выступая вслед за набольшим воеводой.
Набольший, опустив голову на грудь, покачивался в седле. Он ехал шагом, один: Ромашки, к которому он привык, теперь не было подле.
Удалой казак остался в сборной избе на лавке. Он бредил широкой степью, высоким небом и белым кречетом.
А в Троицкий монастырь уже скакал гонец за Ионой-врачом.
ВОЕВОДЫ И ПОЛКИ
Иона-врач приехал ночью, в новом тарантасике, выкрашенном в желтый цвет. В тарантасик впряжена была пара монастырских караковых, управляемых все тем же монахом-силачом.
Ночные караулы, стоявшие на перекрестках Рубленого города, пропускали Иону беспрепятственно. Впереди, перед тарантасиком, в котором ехал Иона, скакал с зажженным факелом гонец. Он еще издали кричал караульным:
— По указу набольшего воеводы!.. Гей, гей! Поворачивайся! Раздвигай решетки, опускай цепи…
И решетки, которыми на ночь перегораживались улицы, сразу раздвигались; цепи, звякая, падали. Тарантасик, подпрыгивая на бревенчатой мостовой, с грохотом проносился мимо.
У сборной избы тарантасик остановился. Иона поднялся на крыльцо, держа в руках небольшой кожаный чемодан. В чемодане были узелки с травами, стеклянные пузырьки с отварами и берестяные коробочки с мазями и порошками.
Иона, стоя на крыльце, перекрестился на Ильинскую церковь и вошел к Ромашке. При свете факела, который высоко поднял в руке гонец, Иона увидел бледное лицо и шелковистую бородку цвета воронова крыла. У изголовья стояла старуха, которую звали Одаркой, единственная лекарка во всем городе. Одарка, однако, не столько лечила, сколько морочила себя и других. Иона сразу понял это. Он строго посмотрел на старуху и приказал ей согреть воды в котле.
— Роман! — окликнул Иона раненого, все еще находившегося в забытьи.
— Летал кречет выше солнца, — стал бормотать в бреду Ромашка, — пал кречет ниже леса.
Иона раскрыл чемодан и стал выкладывать на стол свои узелки и коробочки. Вошла старуха с котлом крутого кипятку.
До самого рассвета хлопотал Иона-врач около раненого Ромашки. Казак уже не бредил степью и кречетом… Он даже открыл на минуту глаза… Иона тут же влил ему в рот ложку какого-то снадобья. Ромашка проглотил, закрыл глаза и заснул. На рассвете Иона велел запрягать. Монах-силач поднял спящего Ромашку с лавки и перенес в тарантасик. Приказав гонцу передать поклон Пожарскому и Минину, Иона сел в тарантас и устроился там в головах у лежавшего пластом Ромашки.
Уже сидя в тарантасике, Иона обратился к старухе Одарке, которая вышла на крыльцо проводить отца Иону:
— Ты, баба, с какой стороны родом?
— Из… из Белгорода мы, святой отец… белгородские мы, — пролепетала Одарка, заметно робея.
— А в этих местах давно?
— Давно. Уж и не упомню, когда привезли меня сюда. Девчонкой еще была.
— А лечишь давно?
— Давно, святой отец.
— Чем же ты, баба, лечишь?
Одарка смутилась и молчала.
— Вот что, Дарья, скажу тебе, слушай. Есть в Белгороде женская обитель. Ступай в Белгород, припади к игуменье Таисии, чтобы остаться тебе в обителе жить, грехи свои замаливать и всякую честную работу работать, какую прикажут: в поле, на огороде, в скотной избе, либо шить, либо прясть, либо что. А лечить я тебе запрещаю. Слышишь? Запрещаю! А не перестанешь, то попомни!
Иона так рассердился, что даже кулаком в кузов тарантасика стукнул.
Старуха испугалась — так и присела на ступеньке и лицо передником закрыла. А монах-силач тронул вожжи, и тарантасик двинулся к Московской заставе, медленно увозя тяжело раненного Ромашку в Троице-Сергиев монастырь.
Когда Минин с восходом солнца, сам управляясь в своей таратайке, подкатил к сборной избе, баба Одарка все еще сидела на ступеньке ни жива ни мертва. Насилу добился от нее Минин толку, поняв наконец, что ночью приезжали троицкие монахи, лечили казака Ромашку всякими снадобьями, а на рассвете увезли с собой в Сергиев.
Минину показалось, что Одарка вроде умом тронулась: заикается и глаза бегают… Но ему некогда было заниматься этим, и он, шагая через ступеньку, поднялся в