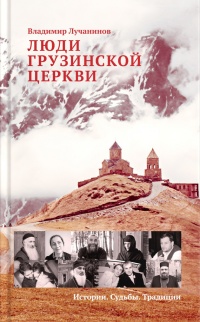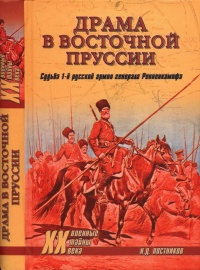Все может быть.
Офицеры невольно прибавили шаг.
Стрельба нарастала, усилился орудийный грохот, которому вторил тревожный собачий лай на городских дворах. Там и тут в уцелевших домишках зажигались окна, бросая желтые отсветы на землю. Скрипели калитки, женщины и ребятишки, выглядывая на улицу, со страхом следили за светящимися точками бомб, беспрестанно прорезававших небо огненными параболами.
— Господи, пресвятая богородица, страсти-то какие! — мимоходом услышал Толстой старушечий голос. — Так и палит, так и палит, басурман проклятый...
Навстречу, громко, возбужденно переговариваясь, кучками брели раненые. Некоторых здоровые их товарищи вели под руки либо несли на носилках. В наступившей за короткими южными сумерками темноте белели повязки на головах, на руках. Толстой остановил солдата, который с трудом ковылял по дороге, опираясь на ружье и бережно переставляя неуклюжую, обмотанную бинтами ступню:
— Ты с ложементов?
— С ложементов, ваше благородие.
— Ну как там?
— Да что, ваше благородие, ежели их сила, — будто оправдываясь, заговорил солдат, стоя с шапкой в руке. — Одних бьешь, другие так и лезут на тебя. Лезут, да и шабаш. И штыка ведь не боятся, не нашего бога черти!.. Я двоих заколол, а тут меня как вдарит по ноге...
— Что же, значит, отдали траншею? — с огорчением спросил подпоручик.
— Кабы лезервы вовремя подошли, не отдали бы ни в жисть. А тут вишь какая сила...
— Лев Николаевич, пойдемте, — позвал Коробейников. — Вы землячков особенно-то не слушайте, — сказал он, когда оба, спотыкаясь в темноте, торопливо зашагали дальше. — У них ведь так: ежели сам ранен, значит, дело дрянь, враг одолевает, поражение...
Ружейная стрельба утихла, лишь время от времени пощелкивали отдельные выстрелы, зато усилился орудийный грохот, отбрасывающий на небо оранжевые отблески. Защищая захваченную траншею, французская артиллерия усердно била по бастионам. Крепостные батареи отвечали по мере сил. Огни выстрелов непрерывно озаряли пушки и хлопочущих около них людей, брустверы из туров, гребешки траншей, пороховые погреба, блиндажи и снова и снова батареи, туры, мешки с землей, ходы сообщений, блиндажи — всю эту давно знакомую крепостную тесноту, среди которой, придерживая сабли, пробирались оба офицера. Солдат, на которого подпоручик наткнулся в потемках, сказал ему, узнав по белой фуражке офицера:
— Вы стенки держитесь, ваше благородие... Вон куда достаеть! — добавил он, когда неподалеку, блеснув огнем, разорвался перелетевший через них снаряд.
Но вдоль оборонительной стенки, к чему-то готовясь, в напряженном, угрюмом молчании теснился целый батальон — вспышка обнаружила ряды бескозырок, торчащие вкривь и вкось штыки.
Кто-то курил напоследок, торопливо затягиваясь, трубочка, разгораясь, красновато освещала нависшие усы в проседью.
Офицерам, прежде чем очутиться в казарме, предстояло миновать открытое, довольно широкое пространство, на которое особенно часто падали бомбы.
— Добежим до вон того блиндажа, переждем, а потом в казарму, чего же тут стоять, — сказал Толстому штабс-капитан. — Ну, граф, с богом!
Торопливо перекрестился и, проворно забирая короткими ногами, с неожиданной прытью помчался к солдатскому блиндажу — низенькая полуоткрытая дверь его светилась желтым пятном издали. За ним, стараясь не ототставать, побежал подпоручик. Работая локтями, оба что есть духу неслись в пахнущей едким дымом темноте, поднятая разрывами пыль скрипела на зубах, над головой смертно шипело, посвистывало... Запыхавшись, с колотьем в боку вскочили они в тускло освещенный каганцом, полный пехотных солдат блиндаж, подпоручик радостно, с чувством детского торжества, засмеялся — и тут на площадке, которую они только что миновали, полыхнул бешеный красный свет, рвануло...
— Аккурат поспели, ваши благородия, — дружелюбно сказал ближайший солдатик и, усевшись на нары с дымящимся котелком, стал истово хлебать деревянной ложкой какое-то варево.
ПОД БЕЛЫМ ФЛАГОМ
Было назначено кратковременное перемирие для уборки убитых. Над полуразрушенными турами и насыпями бастиона заполоскался на ветру белый флаг. Такой же флажок забелел и на французской траншее. Стрельба с их сторон стихла, настала непривычная, странная и отрадная для всех тишина.
Залитая ярким южным зноем лощинка между нашими и неприятельскими позициями, где еще полчаса назад каждого появившегося на ней ждала пуля и где повсюду, полускрытые свежей зеленой травкой, валялись трупы в серых и синих шинелях, сейчас наполнилась народом. Толпы солдат и офицеров высыпали навстречу друг другу из-за укреплений, уже не боясь, что в них будут стрелять, и перемешались между собой. Пропахшая пороховым дымом долина превратилась в живой, беспокойно шевелящийся цветник — черные и белые фуражки русских, красные кепи и фески французов, синие их мундиры, красные штаны... Приехавшие из города рабочие команды тем временем принялись сносить и укладывать на подводы обезображенные трупы.
Среди севастопольцев, вышедших, из-за укрытий поглядеть вблизи на французов, а при случае и перекинуться с ними словцом-другим, находился и артиллерийский подпоручик граф Толстой. Он переходил от одной пестрой группы людей к другой, с пытливой жадностью, глядя на мирно разговаривающих меж собою, смеющихся врагов, и дивился в душе вовсе не враждебному, а скорей даже благожелательному, мало того — уважительному любопытству, с каким смотрели они друг на друга. Он прислушивался к их беседе. Он старался ничего не упустить и навеки запомнить все увиденное и услышанное, выражение лиц, улыбки, жесты, интонации, угадать мысли и чувства людей.
Порой горячим ветерком наносило с лощины сладковато-тяжелый, удушливый, отвратительный запах, и подпоручик думал, что под южным солнцем разложение происходит очень быстро и что людям, убирающим мертвецов, трудно работать.
И еще думал, что все это завернутое в цветное тряпье гниющее мясо еще недавно было живыми людьми со своими мыслями и страстями, собственным характером, со своей жизненной судьбой...
Пройдет немного времени — и артиллерийский подпоручик так напишет об этом дне:
«Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.
— Э сеси пуркуа се уазо иси?[10] — говорит он.
— Parce que c’est une giberne q’un regiment de la garde, Monsieur, qui porte l’agle imperial[11].
— Э ву де ла гард?[12]
— Pardon, Monsieur, du 6-eme de ligne[13].
— Э сеси у аште?[14] — спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.
— A Balaclave, Monsieur! C’est tout simple en bois de