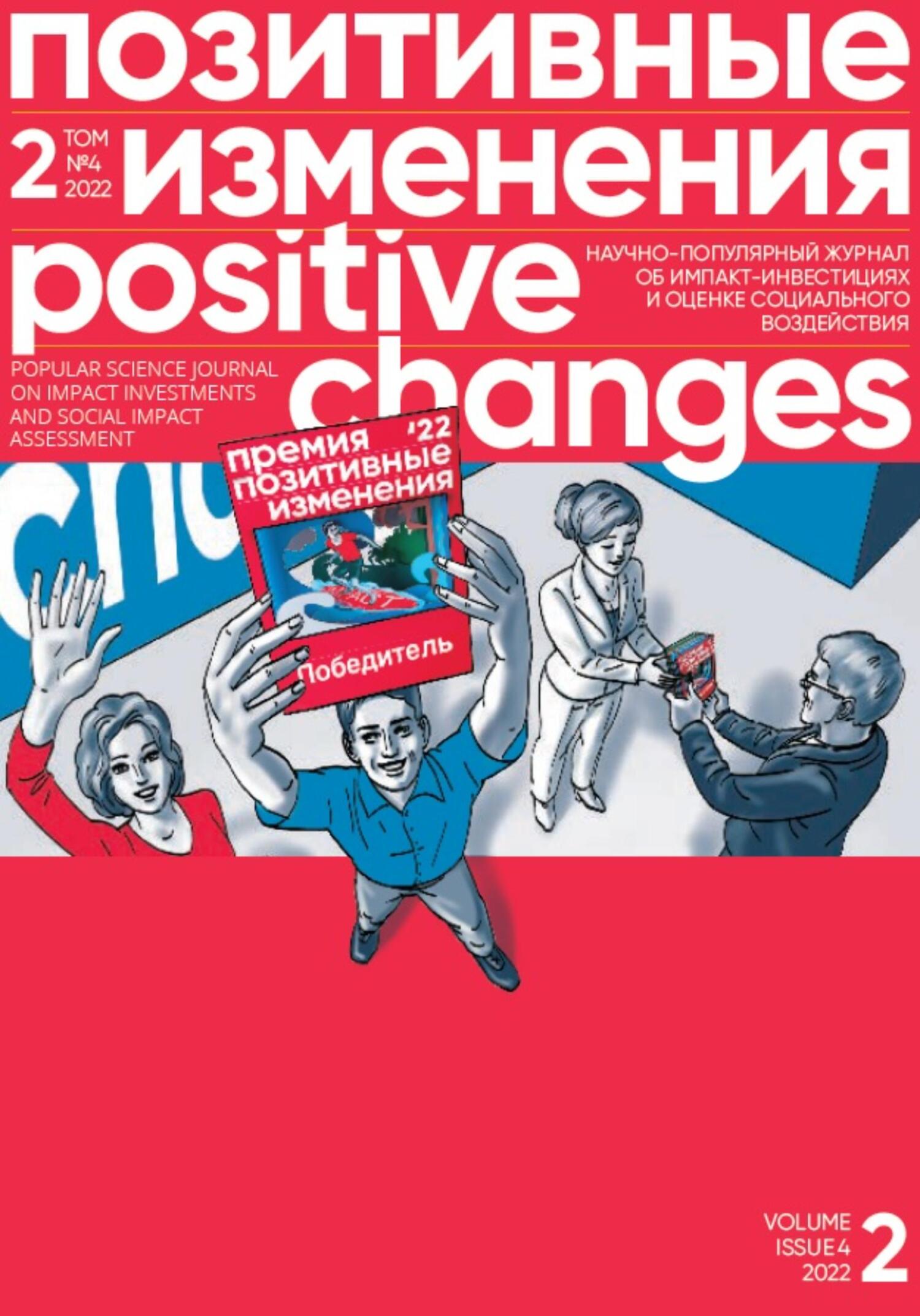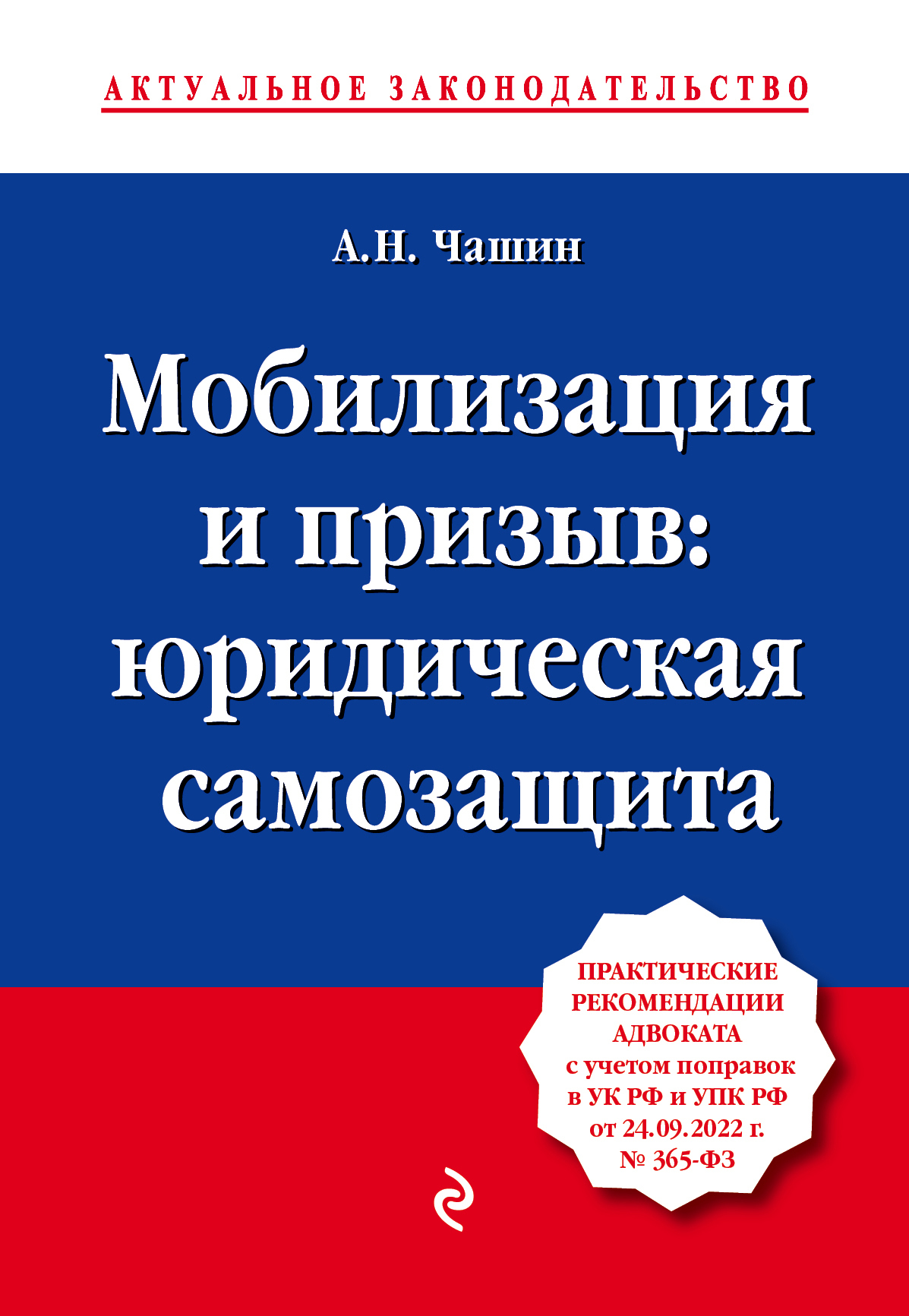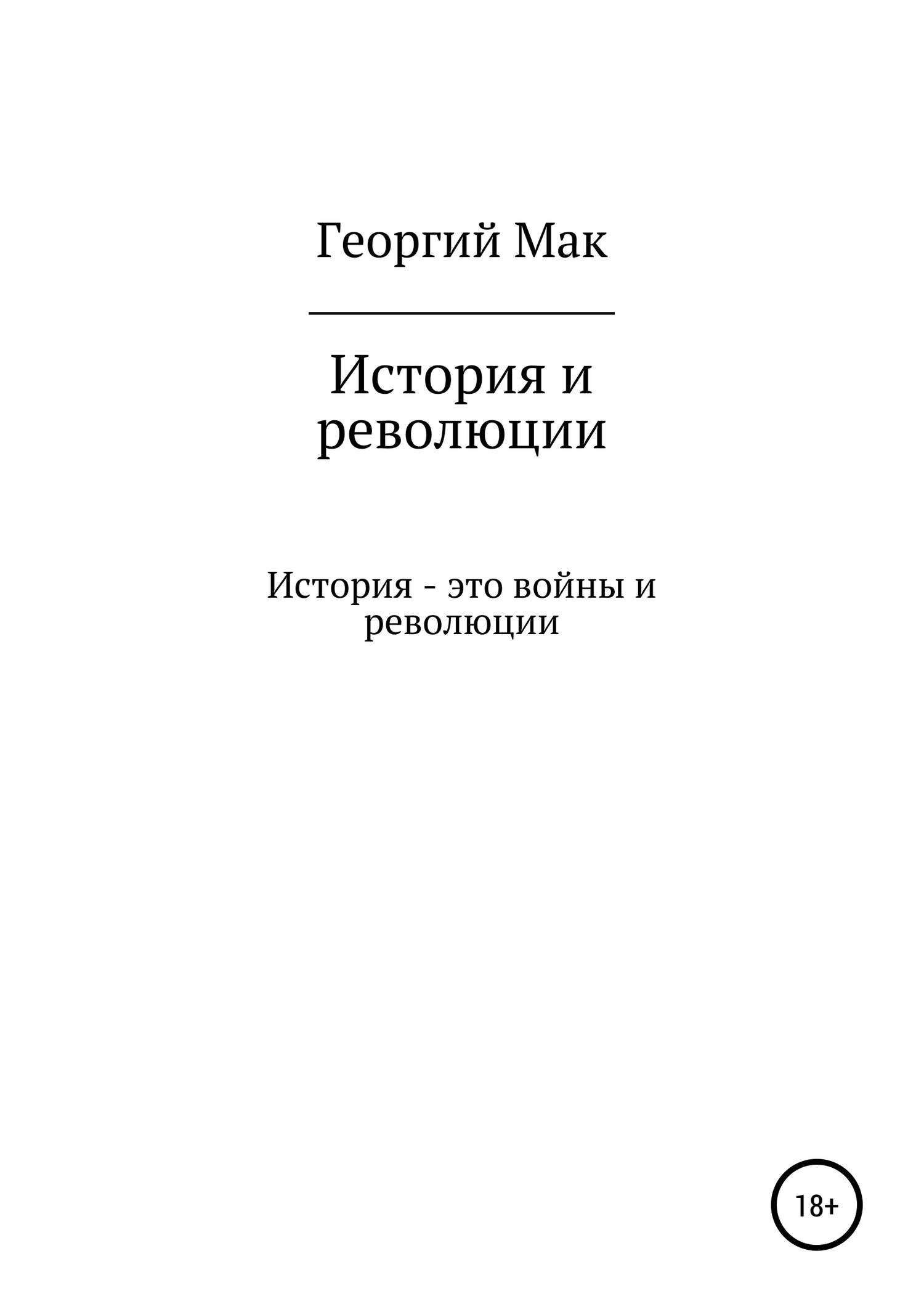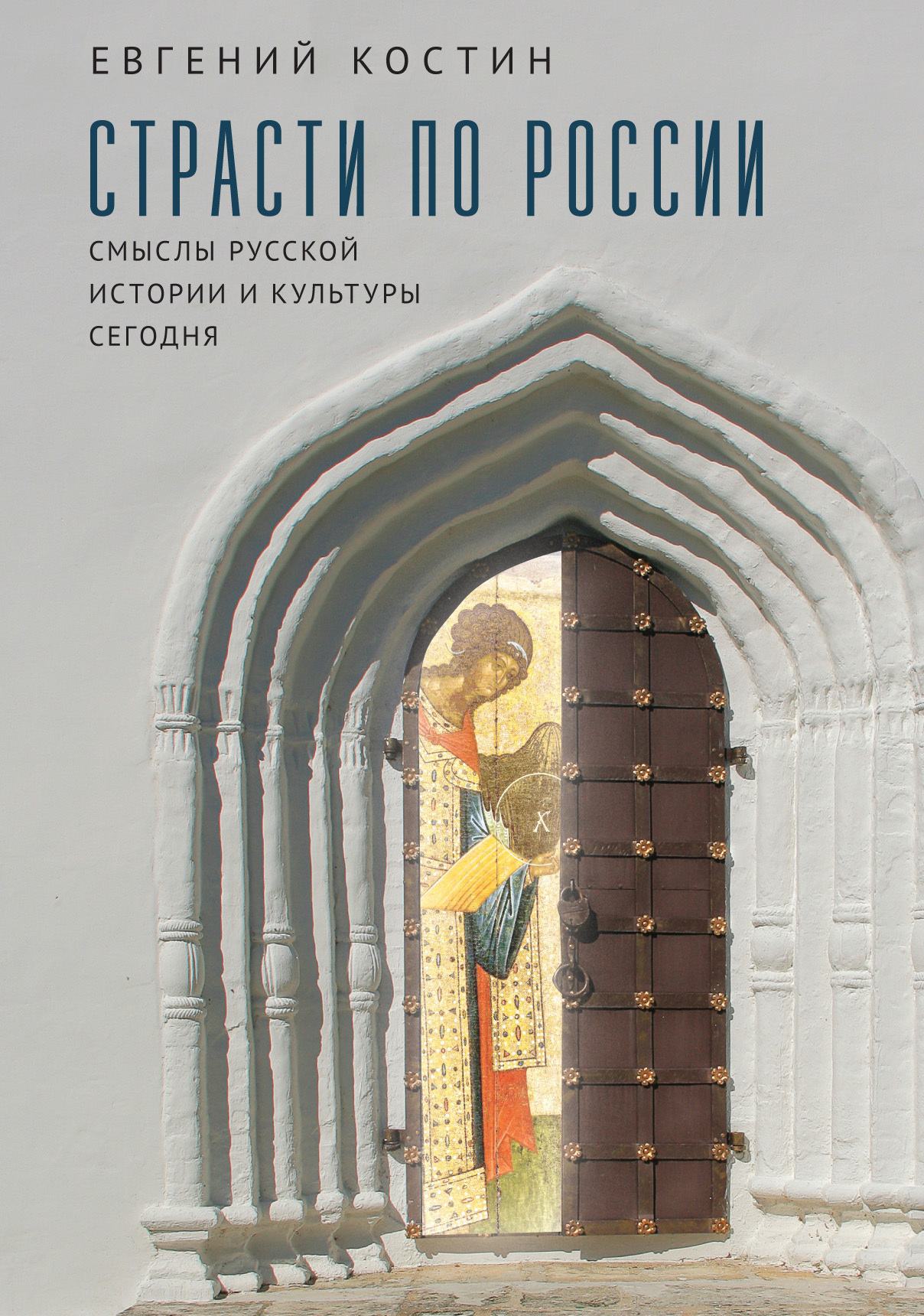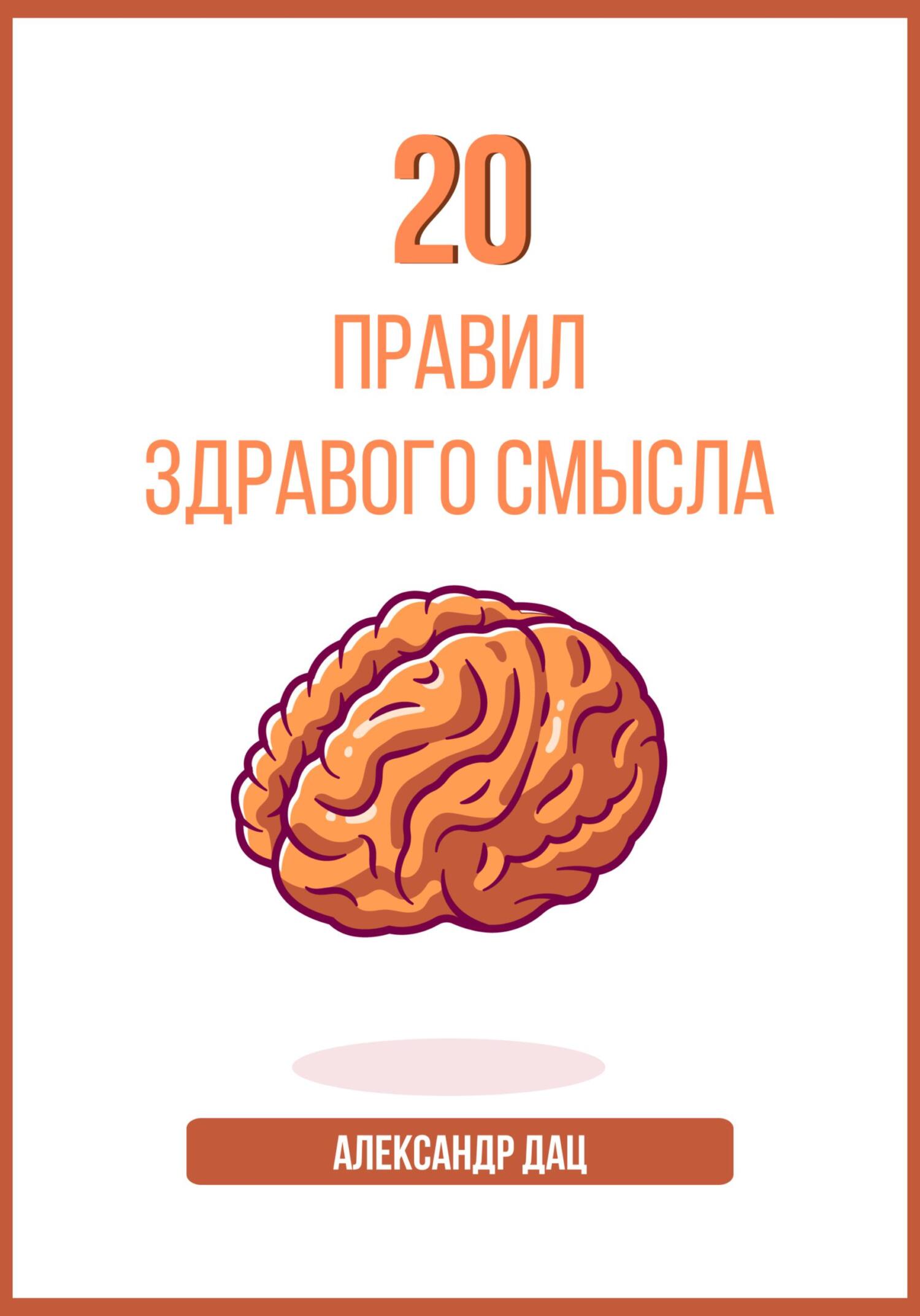над остальными, включенными в их пределы, странами. Это значило бы, что Германия имеет право владеть Эльзасом и Познанью, что Россия имеет право на Польшу и Финляндию, что Франция имеет право на Марокко и Алжир, и Англия – на Египет и Ирландию; это значило бы сказать: выйти из этой войны с тем, что мы восстановим клубок международных отношений, из которых эта война возродилась». «Поэтому, конечно, если бы поставить целью вернуть Германии её старые границы, её старые владения, вернуть Германии захваченные Японией колонии, то это значило бы продолжить эту войну бесконечное время, ибо неизвестно, какими военными методами можно заставить Японию вернуть Киао-Чао».
То же касается и права на самоопределение: «попытка поставить [вопрос] так, что право нации на самоопределение должно быть предоставлено только тем нациям, которые фактически этой войной заняты, или, вернее, местожительство которых этой войной фактически затронуто, – это для нас тоже неприемлемо. Ибо неизвестно, почему Польше, так как она подверглась разгрому со стороны русских и германских войск, должно быть предоставлено право на национальное самоопределение, а какой-нибудь Богемии, Чехии, Хорватии или Венгрии право это не предоставлено, потому что по той или другой счастливой случайности они ареной военных действий не послужили». Поэтому «должно быть предоставлено право самоопределения всем тем нациям, которые находятся в подчинении у других наций и которые удерживаются насильно в пределах того или иного государства».
В жесткой манере Каменев продолжает отмежевание большевиков от идеи сепаратного мира: «наивная, детская, темная вера сказалась в мечтах о том, что можно избавиться от этой империалистической войны тем, что какая-нибудь одна сторона сложит руки и скажет: мы воевать больше не желаем. Я повторяю: этой темной и наивной верой не может руководиться ни одна политическая сознательная партия».
И в той же манере он продолжает фантазию о мировой революции, которая также сходна с темной верой, скрывающей какие-то иные смутные желания: «Из этой империалистической войны нельзя выйти каждому в отдельности, ни нам, ни кому-либо другому».
Итоговый вывод: «мир без аннексий, это значит перед всем миром поднять знамя восстания против империалистических правительств собственных, это значит отказаться от дипломатических переговоров с империалистическими правительствами и апеллировать от них к сознательности и революционному чувству тех классов, которые в эту войну ввергнуты их правительствами».
Соответственно, все переговоры с империалистами бессмысленны: «конечно, никаких переговоров на этой почве ни один капиталистический класс, ни одна капиталистическая держава с русской революцией вести не будет». Бессмысленны какие-либо надежды на прежних союзников: «у русской революции нет никакого другого союзника, кроме угнетенных классов». «Спасение для русской революции заключается в том, чтобы Россия осуществила, прежде всего для себя самой, лозунги отказа от аннексий и не создавала себе трений с Финляндией и Украиной, сама поставила бы во главе правительства представителей солдат и рабочих и, опираясь на угнетенные классы всех других стран, повела бы борьбу и войну в союзе с этими угнетенными классами против империализма всех держав».
Очевидно, что всё сводится к саморазрушению государства – как путем его расчленения, так и путем замены профессионального правительства профанами «из народа», которые тут же начнут войну со всем миром, склоняя народы к такого же рода государственным переворотам. Кроме гибели, такой подход, аргументированный исключительно марксистской догматикой, ничего принести не мог.
Эсер Саакьян (91) раскритиковал исходную посылку Ленина, речь которого во всём остальном показалась ему вполне логичной. Неверным Саакьян назвал утверждение, что революционная демократия не должна делить буржуазию на «свою» и «чужую», а «значит во всеоружии должна выступить против своей буржуазии» и дать наглядный урок демократии германскому и мировому пролетариату.
Саакьян против того, чтобы арестовать банкиров по просьбе Ленина, так и против того, чтобы арестовать Ленина по просьбе банкиров. Оратор ещё раз подтверждает невежество Ленина: лидер большевиков не знает ситуации в Армении, где произошла резня; он также предлагает дать автономию Украине в условиях войны, когда невозможно провести по этому поводу плебисцита. Попытки решить все проблемы до Учредительного собрания – это подрыв революции.
Если большевики против сепаратного мира, то как расценивать их противодействие наступлению и склонение солдат к братанию? Это способ разложить армию. Революционная идея, когда это нужно, должна быть подкреплена штыками – утверждает Саакьян. Германия будет братской, когда освободит Либкнехта и водрузит красное знамя на Потсдамской площади. А пока она – н е лучше царской жандармерии.
Ленинский романтизм, по мнению оратора, выглядит нелепо: «Ленин верит в чудо, – что эта социалистическая республика эхом раскатится по всей Германии и там вызовет восстание, и тогда революция победит. Неужели у нас менее громкие дела были несколько в другом масштабе, и эхо их не докатилось до их уха?» Требование опубликовать договоры, когда речь идет уже об их изменении – точно так же выглядит неумной фантазией, которая может лишь сыграть на руку Германии.
На трибуну выкатывается тяжелая артиллерия большевиков – Троцкий. Но его уже не хотят слушать – деструктивная позиция изобличена в полной мере. Троцкому кричат из зала: «Какие мы вам товарищи!» И оратор сбивается, вступает в пререкания с залом, почему-то съезжает на полемику с Виленкиным. Он признает, что армия «не стоит на высоте революционного социалистического сознания», что в ней царит анархия (надо напомнить: организованная при решающей роли большевиков). «Но это наша армия, та героическая армия, которая совершила русскую революцию. Всё объясняется тем, что в армии преобладают шкурные вопросы и личные интересы, что это разлагает армию. Эта постановка вопроса, по-моему, совершенно недостойна ни вас, ни нас».
И тут же оправдывает анархию возникновением какой-то сознательности, которой, будто бы, вообще не было в воинстве исторической России: «наша революция раз и навсегда ликвидировала старую психологию русской армии, психологию саранчи или воблы, как говорил Глеб Успенский, когда сотни тысяч умирали пассивно, стихийно, не давая себе отчета в существе своей жертвы и не ставя перед собой вопроса о субъективной и объективной цели этой жертвы. Я говорю: да будет проклят тот исторический период, который мы оставили за собой! Если мы сейчас ценим героизм, так не этот массовый, стихийный, бессознательный, а героизм, который проходит через каждое индивидуальное сознание».
Троцкий уповает на какой-то новый революционный энтузиазм армии и приводит в пример армию Французской революции, которая «проголосовала бы» и за наступление. Проблема лишь в том, что в русской армии нет таких идей, которые сплотили бы её. Из зала кричат: «Есть!» Троцкий отвечает: тогда не было бы жалоб на анархию. И он прав: прежняя идея служения разрушена, новой ещё нет. Действительно, Временное правительство ставит вопрос о