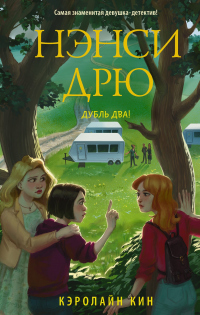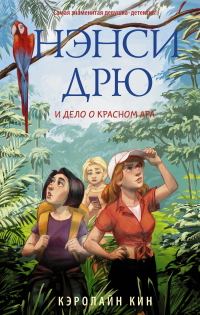– Алло, Мирей? Добрый день… это Дени, папа Мало.
– А, добрый день.
– Мирей… Пару дней назад Мало уехал из Бурк-ан-Бреса со своим двоюродным братом Феликсом на машине. Нам они сказали, что едут на юг заниматься сёрфингом… Но нам показалось, что мы узнали Мало на тех кадрах из кемпинга в Невере.
– Мирей, послушай, мне правда очень жаль, что всё так обернулось, я… Ты ведь знаешь, Мало потерял маму ещё совсем ребёнком. Помнишь? У него немного расшатана психика. Он плохо ладит с моей нынешней спутницей и… В общем, мы немного волнуемся и надеемся, что, если полиция будет спрашивать тебя про него, может, ты могла бы… не знаю, пожалеть его немного. Мирей?… Ты меня слышишь?
– Да, я вас слышу. Помните, как моя мать пришла к вам после первого конкурса Колбас?
– А когда умерла ваша жена – мы тогда были в третьем классе – и я каждый день приходила к Мало с новым пирогом? Каждый день!
– Да, Мирей, я помню. Да, понимаю, у тебя нет причин его жалеть… Но…)
21
А ты, читатель, что бы сделал ты на моём месте? Что бы ты сделал, когда тот, с кем вы были лучшими друзьями в детском саду, с кем вместе катали из солёного теста пиписьки, кто потом тебя предал и два года подряд назначал Золотой Колбасой (потом Бронзовой), кто попытался сорвать твой велопробег – последнюю надежду вернуть себе хоть каплю достоинства, – что сделал бы ты, когда этот бывший лучший друг, которого ищет полиция, весь бледный и дрожащий, как крольчонок, вдруг появился бы из-за угла прямо перед твоим носом, когда ты идёшь в туалет во время обеденного перерыва? И появился бы, скажем, потрясая жалким перочинным ножиком, с потёками слез на щеках?
Монтаржи, 13:15. Общественные уборные на пустынной улице. В конце улицы площадь, где две остальные Колбаски и Солнце общаются с нашими фанатами, пичкая их колбасками. Я спросила «Кадертыкак», и он ответил «ничего, спасибо». А как Хакима? У неё уже не так болит, Астрид кормит её нурофеном, как конфетами. Астрид сказала: «И давно ты стала такой заботливой, Мирей? Раньше тебе плевать было, кто там как». Я ответила: «Да я спрашиваю только потому, что не хочу, чтобы мы опоздали». И добавила, что мне надо в туалет.
И вот я здесь, на пустынной улочке, тёмные пятна на асфальте воняют мочой, у знака с «кирпичом» навалены коробки, на окнах решётки, и вдруг – Мало, стоит и сверлит меня взглядом.
– Мало! Ты чего здесь делаешь?
– Я предупреждал, – всхлипывает он, – я говорил тебе, что проткну тебе шкуру, если будешь надо мной насмехаться.
Он дёргается от рыданий, будто его бьёт током, плечи дрожат. Из ноздри бусинкой выглядывает сопля.
– Не понимаю, как же это я над тобой насмехаюсь?
Я развожу руки, будто показывая: спокойно, я без оружия. Инстинкт выживания нулевой. Если он правда проткнёт мне шкуру (чего, видимо, и хочет), то прощай, моя печень! Разве что жировой слой спасёт. Ножик-то у него маленький.
– Насмехаешься (ик!), потому что…
Тут он уже рыдает вовсю, вытирает рукавом глаза и нос, шмыгает, втягивает непослушные сопли, которые рвутся наружу. И между рыданиями бубнит:
– Ты и те тупые Колбасятины, вы хотите поднять меня на смех (ик!), я знаю, это вся ваша дебильная тайна (ик!), хотите приехать в Париж и там опозорить меня, донести на меня… всяких гадостей наговорить… опозорить…
Так, пластинку заело. Я, чуть дрогнувшим голосом:
– Мало, честное слово, это вообще с тобой не связано. Мы бы даже не вспомнили про тебя за всю поездку, если бы ты не проткнул нам шины.
Он подходит ближе и снова ревёт. Когда он плачет, ему и близко нет шестнадцати, двенадцать-тринадцать от силы, и голос у него снова как до ломки, голос малыша Мало, который прибегал на блинчики Филиппа Дюмона.
– Полиция… они… меня ищут…
– Да, знаю, но ты тоже хорош! Зачем нам пакостить приехал? Оставался бы в Бурке, и всё.
– Все надо мной (ик!) смеются (тройной ик), потому что вы (конец рыданий) назвались «Колбасками»…
– Вот оно что, а разве у тебя патент? Не можем твой бренд использовать?
Он подходит ещё, я отступаю, и вдруг он… кажется, и правда пытается проткнуть мне шкуру. Почти как в кошмаре, когда всё мрачное, синеватое – мне часто снится такое, будто кто-то хочет меня убить. Тут так же – то же внезапное чувство, будто отделяешься от тела, становишься чистым духом, полным ужаса, который тщетно пытается уберечь кокон своей плоти (спасибо генам и сладким пирогам).
– Чёрт, Мало, а ну хватит!
К счастью, мне без труда удаётся его оттолкнуть. Он не так уж горит желанием проткнуть мне шкуру, как можно подумать по речам, – ткнул разок в руку, едва оцарапал. Потом ещё раз попытался уколоть в плечо, но я остановила его.
Всхлипывая и спотыкаясь, как новорождённый жеребёнок, Мало отступает на своих длинных, как у марионетки, ногах, сжимая нож в кулаке.
– Мало, а где этот твой Феликс?
– Феликс уехал… Испугался… Он меня… бросил… одного…
– Ладно, слушай: иди в полицию сам, это проще всего. В тюрьму всё равно не посадят – ты ещё мал.
– Мне страшно…
– Давай иди, я дам показания в твою пользу. Хочешь, могу вообще сказать, что ты не по своей вине, что это я тебя довела. Надо нам только сказать, что… не знаю… а, вот – например, что я украла у тебя что-то в пятом классе, что-то важное, и ты за это на меня злишься? Видишь, выходит, это в чём-то и моя вина. Скажем так полиции, и они отнесутся с пониманием.
Он пялится на меня, лицо перекошено, всё в каше из соплей и слёз – смотрится весьма уродски, надо сказать, – и вдруг оседает на тротуар.
– Не-е-ет, нет, Мирей, хватит, мать твою, хватит…
– Что хватит?
Он роняет нож, – я, не будь дурой, подбираю его по-быстрому и сажусь рядом на корточки. Он рыдает в голос, схватившись за голову и упрекая меня, если вкратце, в том, что я слишком добра к нему, хотя он уже столько лет ведёт себя как последний мудак, а я… нет чтобы вмазать ему как следует в наказание (будто охота мне костяшки отбивать!).
И тут на меня снисходит озарение (отчасти потому, что нестерпимо хочется пописать):
– Мало, я не психолог, но у меня такое ощущение, что ты вымещаешь на мне собственное чувство вины за то, что стал этаким маленьким мачо, тупым как пробка, который не придумал ничего лучше, чем показать, что порвал с детством, публично унижая лучшую детсадовскую подругу, и теперь попал в жуткое положение: надо сохранить лицо, а девчонкам, которых он травил, на него совершенно плевать, и вместо того, чтобы бояться, они его не замечают и, не спросив его, катаются по Франции и наслаждаются славой. Так?