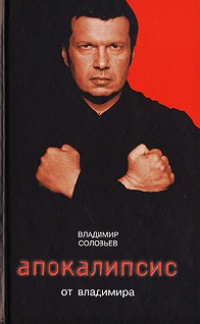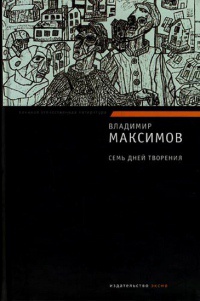— Здесь, на этой скамейке? Прости, Марти, но никогда… Я не такая.
Я поделился своими проблемами с Вероникой, мы все обсудили. И не раз. Я доверял ей, как младшей, но куда более смекалистой сестренке. Вероника мне сочувствовала, на лекциях по фонетике и истории европейской литературы она обрабатывала Камелию, призывая ее сжалиться надо мной и сдать неприступную крепость целомудрия, впустив прекрасного, как взошедшее солнце, меня.
— Я сказала ей, — торопливо шептала Вероника, сидя на расстоянии свободного стула от меня в том же ряду, — что каждый мужчина стремится стать победителем. А ты — прирожденный победитель, не так ли?
Наконец, в один прекрасный ноябрьский день, не я, а Вероника нашла выход из этой неразрешимой ситуации. Ее родители уехали в деревню к родне. Она пригласила нас с Камелией, купила бутылку «Золотого якоря», нарезала сыра и луканки, включила магнитофонную запись «Роллинг стоун» и ушла к тетке в гости.
— До двенадцати, — вымученно улыбнулась она, уходя, — дольше не могу, дядя рано ложится спать.
— Ни о чем не тревожься, — ответил я, на улице уже темнело, но часы показывали только пять вечера.
Мы мучили друг друга разговорами часов до десяти, потом незаметно стало пол-одиннадцатого, я нервничал и, кажется, выпил лишнего. Решившись, я перешел в наступление на диване. Диван не выдержал — подломилась ножка. Кое-как «поставив его на ноги», мы переместились на соседнюю кушетку. Раздевал я ее долго и так многослойно, что ее красота встала мне поперек горла, я чувствовал себя еле ползущим поездом, на котором мне было суждено в наказание проехать по всей территории страны. Когда Камелия почувствовала мое разочарование и готовность плюнуть на всю эту тягомотину, она встала и деревянными механическими движениями стянула с себя свои трикотажные трусики. Пока я предавался любви, она думала. Меня это смутило и обезоружило до состояния полной беспомощности. Я просто чувствовал, что пока я бьюсь о ее красоту, как о стену, она мысленно рассуждает о том, что мне скажет, когда я изольюсь. И я стремительно излился. Часы на стене показывали без десяти одиннадцать.
— Что мы наделали, ох, что наделали… — заохала Камелия, — как ты мог…
И не без труда расплакалась. Намекнув, что между нами произошло нечто роковое, так и сказала: «роковое», повторив это слово несколько раз, она заявила, что теперь нам нужно или расстаться, или пожениться. Камелия была провинциалкой, из Хасково, а софийская прописка в то время ценилась больше, чем квартира в блочном доме. Стрелки часов неумолимо двигались к двенадцати, меня охватило чувство безысходности.
— Мне нужно подумать до утра, — попытался я выскользнуть из западни.
— Сейчас, — куда более бодро прорыдала Камелия, — сейчас или никогда…
— Ладно, — согласился я, — но поговорим по дороге… нам пора линять отсюда.
Уличный холод и промозглый туман меня несколько успокоили. Я остановил такси, отвез ее в общежитие Студгородка и поцеловал на прощание на вытоптанной полянке у входа.
— Мне ведь еще учиться… — виновато пробормотал я. — Нужно закончить институт.
— Но ведь у тебя уже вышла книга, — попыталась вразумить меня Камелия. — Ты теперь писатель.
— Будет лучше, дорогая, если мы расстанемся, — беспомощно развел я руками, — я не уверен в своих чувствах.
— Так я и знала… ты такой же, как все, — пророчески изрекла Камелия. — А Вероника меня убеждала… она мне такого наплела, твоя Вероника, — Камелия резко повернулась и растаяла в подъезде общежития, навсегда исчезнув из моей жизни.
Крах наших отношений с Камелией Вероника пережила как личную драму. И сколько я ее ни убеждал, что ничего не испытываю к Камелии, что рад тому, что отделался от нее, она страдала вместо меня и больше, чем я. Просто ела себя поедом.
— Но как она могла, как посмела посягнуть на твою свободу, на твою священную свободу. Хоть бы пару строк прочла из твоего «Отчуждения» (это было заглавие сборника моих рассказов), хоть бы попыталась вникнуть в твои слова.
Мы сидели у Вероники дома, батареи раскочегарились до невозможности, мы распахнули окно, «Битлз» создавали атмосферу. Мы остались одни, ее родители снова уехали в деревню, к ее деду, резать свинью. Вероника тонко напластала луканку и бабек[30] — ее мать работала инспектором по мясным продуктам, и холодильник всегда был забит всякими вкусностями. Она прочла мне свое новое эссе, длинное и скучное. В то время я пил мало, и три рюмки дорогущего коньяка «Преслав» вскружили мне голову, я понял, что напился: внезапно нахлынула тоска, одолели воспоминания о Камелии. Вероника, будучи отнюдь не глупой, поняла, что со мной происходит, ее боль заполнила гостиную, осадив клубы сигаретного дыма.
— Твоя свобода… — повторила она, как в трансе.
— Да, я свободный человек, — высокопарно произнес я, хлопнув рюмку до дна; ноги обмякли, мир закружился вокруг меня и сжался в размерах. А я стал огромным, почти как боль Вероники.
— А как я завидовала всем твоим девушкам, как завидовала, — мечтательно произнесла она.
— В чем завидовала? — спросил я, хоть ответ был мне известен. Тогда я впервые заметил стрелку на ее черных колготках. Она начиналась у колена, похотливо ползла вверх по бедру и скрывалась за кромкой подола юбки. И тут я ожесточился, словно она отвесила мне оплеуху.
— А ну иди сюда, — сказал я, похлопав по дивану рядом с собой. Она, как загипнотизированная, подчинилась. И впервые села рядом. Мы долго молчали, тяжело дыша. Я опытно поцеловал ее, она от неловкости прикусила мне язык, дрожа всем телом. Я неловко стянул с нее одежду и грубо, невоздержанно взял ее, с преимуществом мужчины, не испытывающего ничего, кроме плотского удовольствия. Она вцепилась в меня, ей не хватало воздуха, она задыхалась. Там, между ног, возникла мучительная липкость. Я осознал, что она была девственной, только увидев красное пятно на диване, — не устоявшем подо мной и Камелией. Меня охватило чувство обреченности, сам того не желая, я совершил святотатство. И мгновенно протрезвел.
— Почему ты не предупредила? — заикаясь, спросил я.
Пристыженная и сломленная тем, что не оправдала моего доверия, она мелкими шажками, не поворачиваясь ко мне спиной, засеменила к коридору. Битлы пели о желтой подводной лодке, в распахнутое окно вливалась влажная прохлада. У меня от потрясения кружилась голова, сил не осталось даже на угрызения, сознание волшебным образом совершенно очистилось. Я быстро оделся, прихватил со стола недопитую бутылку и, подталкиваемый малодушием, улизнул…
Следующие три месяца я писал дипломную работу, ни разу не заглянув в Дом студента. Отпустил себе декадентскую бородку и постарался забыть о своем унизительном бегстве, подыскать какое-нибудь, хоть иррациональное оправдание собственной подлости. Заставлял себя не думать о Веронике, но безуспешно. Она стояла у меня перед глазами — отступающая назад, пришибленная виной за то, что обманула меня, подвела, подарив свою бесценную девственность. Я ее не искал, она тоже мне не звонила, я пытался себя убедить, что ее молчание меня не интересует. В начале апреля не выдержал и в первый же понедельник ринулся в Дом студента. Я так спешил, что приехал на такси. На втором этаже на меня издалека повеяло знакомым запахом мастики. Вероника была там — стояла, прислонившись к трибуне и прикипев взглядом к двери, в которую входили богоизбранные. Ждала меня. Смущенно улыбнулась. И села неподалеку — через один стул от меня.