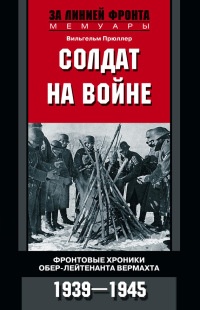Царская фелюга тихо скользила, встречаясь с высокими баржами, где толстые продавцы, завернутые в розовые льняные плащи, пировали под музыку фригийской флейты. Голые ребятишки, хорошенькие, как младенец Гор из храма, ковырялись в грязи пролива в поисках монет, брошенных чужеземными путешественниками выступающим на берегу акробатам. Старые рабы, усевшись на корточки на понтонах постоялых дворов, плели для обедающих гирлянды из шафрана и роз. От Элевсина до Канопы канал был «местом всех удовольствий», символом разврата и утех – сюда приезжали со всего мира, чтобы провести хоть день или неделю канопской жизни…
Этот пестрый спектакль показался Селене занимательным, а запах ячменного пива и жареной рыбы – настолько необычным, что она вышла из-под укрытия качающегося балдахина и подошла к своему педагогу, Диотелесу, который сидел на корме судна и писал. Но когда в Схедии небольшое судно достигло места, где на горизонте виднелся Нил, и стало следовать вдоль ажурных решеток, за которыми группы мужчин и женщин, издали подбадриваемые лодочниками, стали пытаться на него запрыгнуть, Диотелес снова вызвал носильщиков вееров стать вокруг принцессы.
– Это мне решать, показывать себя или нет! – рассердившись, закричала она. – К тому же эти идиоты мешают мне своими спинами: я совсем ничего не вижу!
– Вот именно. Они не защищают тебя от взглядов, они защищают твой взгляд…
Задетая девочка догадалась, что речь шла о целомудрии. Она почувствовала себя одновременно виноватой и оскорбленной. Вернувшись под навес, Селена закрыла глаза и до самого прибытия не переставала задаваться вопросом, чем мог ранить ее вид этих толп людей. Какое преступление они совершали? И свидетельницей чего она стала?
Безусловно, в ту эпоху в отнюдь не целомудренной стране у девочки ее возраста, воспитанной во дворце, была тысяча возможностей лицезреть – нарисованных и мраморных – любовников, слившихся в объятиях, богов с половыми членами в состоянии эрекции, умилительных гермафродитов, сатиров-насильников, пылкого Приапа[118], не говоря уже о гигантских фаллосах, которые носили верующие во время процессий на улицах, почитая Диониса и Осириса. Но эти объекты искусства и предметы культа были для нее до такой степени привычными, что Селена никогда даже не думала, будто они хоть как-то воплощаются в реальности. К тому же известная ей реальность – с евнухами и детьми из дворца – не наводила на мысль это сопоставлять. Дочь Клеопатры и Марка Антония в свои восемь или девять лет была так же невинна, как этого желал бы сам Катон. Такая же невинная, как крестьянские дети, привыкшие видеть, как козел «делает это» с козой, ни на мгновение не представлявшие, что их родители тоже могут «спариваться»… И вдруг у нее в голове всплыли картины: танец, когда один ложится на другого. Она когда-то видела его, но где? Может быть, на торжественном обеде? Люди, пожирающие друг друга и опрокидывающие лампы… Как же так, ведь она не должна была там находиться! Чтобы стереть эту картину, она закрыла глаза.
Мерное позвякивание систр[119] ее успокоило: лоцман пришвартовал золотую фелюгу к пристани Великого Храма, где группа бритоголовых священников в ожидании царского кортежа трясла металлическими погремушками.
Бог Канопы был не столь впечатляющим, как александрийский. Меньше, светлее и без Адского пса. Доброе лицо с курчавой бородой. А еще у него был умопомрачительный гардероб: за три дня, проведенных Селеной в святилище перед храмом, Серапис трижды сменил наряд. Конечно, Царица тоже носила красивые вещи, но бог оказался более доступным: можно было, опершись на его колени, погладить накидку и даже поцеловать драгоценную ткань! Он позволял это. Никого не отталкивал – ни нищих, ни беглых преступников, которые пришли искать укрытия в стенах храма: у него был вид этакого добродушного старика…
В первый день она принесла и возложила перед Сераписом-Осирисом ценные подарки и сделала жертвенное возлияние нильской водой на освященные алтари приближенных бога: его сестре-жене Исиде, их сыну, младенцу Гору, и псу Анубису, «открывающему дороги»… Она посчитала, что прекрасно справилась с возлиянием. «Неполным» возлиянием, поскольку женщина не имела права лить кровь или вино. Но в возлиянии других излюбленных богами жидкостей она считала себя не менее ловкой, чем когда разворачивала папирусы или занималась сложением на счетах. Она ни разу не пролила ни единой капли; она могла налить молока из золотого вымени в священную патеру[120], не запачкав свою тунику; или в одежде с длинными рукавами зачерпнуть половником из вазы с благовониями и поднести к совершающему богослужение, не загрязнив руки. Когда ты достаточно ловок, чтобы помогать при возлиянии розового масла, то совершенно не страшно дарить благословленную воду! Она делала это в Канопе и в присутствии сборщиков пожертвований, один из которых похвалил ее. Она так загордилась от комплиментов, что даже не заметила на паперти горбунов, одноруких, слабоумных, паралитиков, которых тащили родные, и все эти обезображенные опухолями лица, зловонные раны, носилки, костыли, черную от мух одежду, которые оскверняли храм бога-целителя.
Один прислужник храма, носильщик корзин, привел к ней писаря, чьей задачей было расшифровывать сны, которые пошлет ей бог. Этот «переводчик» жил в стороне от алтарей, в открытой молельне третьего двора. Именно там она провела первую ночь, где спала на походной кровати. Другие верующие устроились в небольшом дворе, где их сны должна была расшифровывать назначенная для этого команда, совершавшая богослужение в укрытии самой последней галереи. Даже когда время молебна давно проходило и бога закрывали священными шторами, толпа лежачих больных продолжала шептать, стонать, храпеть… Селена смогла заснуть только к утру и, когда ее разбудил расшифровщик, не вспомнила ни единого сна: бог ее не посетил.
Пришлось остаться в Канопе. Под палящим солнцем. Замещающая Сиприс служанка даже не подумала раскрыть зонтик, чтобы защитить принцессу от жарких лучей: она бродила по округе, любуясь статуями богов-фараонов, камни которых были влажными от благовоний, а ноги стерты касаниями просящих. Астролог, в свою очередь, смиренно следил за проститутками, которые приставали к прохожим позади часовен. Что касается Диотелеса, то он беспощадно изливал свои размышления о богах на голову одного незнакомца, одноногого калеки, у которого не было никакой возможности убежать.
– И ты мне будешь рассказывать, что евреи имеют право на своего бога!.. Пусть так, но они его скрывают! Ладно еще, если бы это был Аполлон, Ганимед, Адонис – короче говоря, какое-нибудь чудо, то можно было бы их понять. Но нет же, их священники не знают его лица! Никто не видел ни единого его изображения. Какой-то Всемогущий, который даже не может показать верующим, молод он или стар, с бородой или без… Смех, да и только.