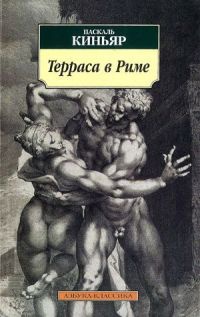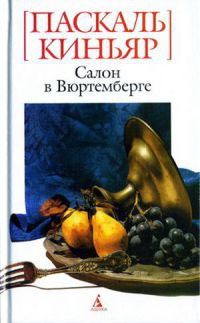Глава XI
Мы лежим, точно жалкие мошки, на ладони богов, и они отчищают нас от нашей ничтожной грязи.
Шекспир[51]
Эдуард проснулся в одиночестве. Он не сразу понял, где находится. В просторном киквилльском доме на всех этажах витал тонкий, слабый аромат молотого кофе – даже не аромат, а намек на него, неясные отголоски. Обоняние искало их в пространстве, улавливало, внезапно теряло – и пыталось найти снова, для чего приходилось высунуть голову из-под простыни, защищавшей глаза от дневного света; это коротенькое, трепещущее в воздухе кофейное послание было подобно миниатюрному изображению, крошечному безмолвному существу, бродившему по дому, чтобы соблазнить мечтателей, разбудить спящих и увлечь их за собой в радости и свет наступающего дня.
Он встал. Зашел в ванную – там по шею в воде дремала Лоранс. Эдуард поцеловал ее в лоб. И спустился вниз.
К полудню дождь наконец утих. Сад замер в безмолвии. Ни одной птицы. Ни малейшего дуновения. Густая, напоенная водой трава отливала мокрым блеском. Он полюбовался горбатым мостиком. Полюбовался цветами. Лоранс нашла его перед клумбой с душистым горошком. Он сказал ей, что голоден и хочет пойти куда-нибудь поесть. Лоранс ответила, что они пообедают вместе с Розой. Но Эдуард повторил: он хочет побыть с ней наедине, ему совершенно не улыбается общение с Розой, он твердо намерен поесть в ресторане.
– Я не люблю женскую домашнюю стряпню.
Лоранс мысленно обругала его. Они вышли из сада через заднюю калитку. Здесь пейзаж был почти бретонским. Узкое русло, по которому бежал ручей, вернее, крошечная речушка, больше камней, чем травы, скалы, поросшие желтым лишайником. Плакучие ивы. Камыши.
Они прошли мимо грузных темношерстных коров, нынче еще более медлительных, чем обычно; те лениво жевали свою жвачку, глядя в пространство, величественные, словно богини покоя – не совсем живые и именно потому весьма близкие к бессмертию.
Они зашагали по боковой тропинке, затененной нависшими ветвями диких слив. Ресторан уже открылся. В очаге пылал огонь, сырые дрова звонко трещали и испускали едкий чад. Они сели возле камина. Долго беседовали. Разговаривая, каждый из них то и дело касался лица или руки другого.
Он глядел на грузного толстяка, попыхивающего трубкой. В последнее время редко увидишь курильщика трубки. Такие курильщики трубок мало-помалу сами превратились в предмет коллекционирования. Это устройство для сжигания табака выглядит нынче так же нелепо, как спинет под руками рокера – например, Юлиана ван Вейдена, или так же дико, как отряд арбалетчиков, с воинственным кличем идущих на приступ мыса Канаверал.
Вдруг ему стало до того холодно, что он возмечтал об одеяле из шерсти яка. И внезапно подумал: «Мне скучно. Мне холодно. Я точно ферма Хугомон на поле Ватерлоо,[52]которую обстреливают из пушки. Только никак не пойму, кто в меня палит. Какие-то странные приступы меланхолии. Странная тяга к пустоте. Странное, нетерпеливое желание отрешиться от этого мира». Ему вдруг нестерпимо захотелось ощутить во рту вкус пива Moinette, и он взял чашку кофе из рук князя.
Дело происходило в Париже, на Бурбонской набережной. Было десять часов утра. Пьер Моренторф позвонил ему в Киквилль с сообщением, что Мужлан (так окрестили князя его друзья, хотя некоторые из них в глаза величали его «монсеньором») решил работать на Эдуарда и желает срочно встретиться с ним. Пьер добавил, что, если Эдуард наймет де Реля, он, Пьер, тотчас же уволится. Эдуард успокоил его.
Князь протянул ему блюдце с кусочками итальянской нуги. Видимо, Маттео Фрире просветил князя насчет всех его пристрастий. Он съел несколько этих белых камешков. Ему вдруг почудилось, будто он жует крошки беломраморных перил монументальных лестниц Шамборского замка, обвивающих внутреннее пространство центральной башни.
Они сидели на угловатых шезлонгах с колесиками, в стиле Star Trek. Крошечная китайская собачонка со слезящимися глазами, явно одуревшая от непрерывных переездов, куда таскал ее хозяин, положила лапку на ботинок Эдуарда. Она напустила лужу на паркет и высунула розовый язычок. Мужлан встал и принес полотенце.
Князь был миллиардером. Помимо денег он страстно любил современное искусство. Он сел в белое кресло лакированного дерева в стиле 50-х годов с гобеленовой обивкой. Рисунок ткани состоял из мелких фиалок и жонкилей. Колени князя были тесно сжаты, брючные манжеты имели шесть сантиметров в ширину. В стену за его спиной был вделан декоративный камин без очага – одна рама из белых и розовых кирпичей.
– Вы не находите, что моя гостиная на редкость забавна?
Князь аккуратно сложил махровое полотенце и принялся смешивать коктейль в шейкере, стоя перед хитроумным сооружением серийного производства с выдвижной панелью, в котором умещались книжный шкафчик, бар, полка для пластинок, подставка для радиоприемника и подставка для телевизора. За приоткрытой дверью виднелась столовая – гарнитур из белого дерева, фаянсовые тарелки на стенах, рюмки и бокалы «сельского» стиля из грубого зеленого стекла. На столе красовался букет фрезий.
– Вы не находите, что у меня здесь мило? – спросил князь.
Он сплюнул в чашечку трубки, и табак шумно затрещал.
– Лет через триста, – продолжал он, – интерьеры мелкобуржуазного стиля 50-х годов будут цениться не меньше, чем Сент-Шапель?[53]
– Нет, – ответил Эдуард.
Князь взял его за рукав пиджака, потянул в угол.
– Взгляните, какой стильный авангард, – шепнул он, – Именно тот, что устаревает за какие-нибудь две недели. Самый трогательный из всех!
Он продемонстрировал Эдуарду Фурфозу маленький столик с ушами Микки-Мауса. Эдуард даже не нашелся с ответом. Он поднял глаза на князя. И увидел, что тот надел черный галстук на майку с изображением отсеченной головы Иоанна Крестителя, с которой ручьями лилась кровь. Князь отличался крутым нравом, истязал свою жену. Маркиза де Мирмир дважды выступала в суде свидетельницей против князя. У него был перебит нос. Он постоянно сетовал: «Я беден, как Золушка!» При том, что вот уже пять веков его семья буквально изнемогала под гнетом фамильных замков, ферм, лесов, всевозможных заводов и охотничьих угодий.
– Мне очень нужны деньжата, дорогой Эдуард.
И он накрыл своей ручищей руку Эдуарда. Эдуард почтительно слушал этого миллиардера, которому вдруг понадобилось несколько лишних «тюльпанов» и который без зазрения совести предавал своего друга Маттео Фрире. Князь де Рель сделал ему невиданное предложение – все, что осталось от Мирмекида, так называемые minuta opera[54]Мирмекида. Эдуард купил шесть статуэток за сущие гроши – чуть больше миллиона франков. Мирмекид был скульптором, которого восхваляли Варрон, Цицерон, Плиний, Апулей. Скульптор античности, чьи творения со времен античности никогда не выставлялись на публичных торгах. Мирмекид вытачивал из слоновой кости такие крошечные статуэтки, что римлянам, покупавшим эти изделия, приходилось помещать их на черном фоне, чтобы различить виртуозно проработанные детали – пальцы рук и ног, члены, уши его фигурок или группы фигур, например Ахилла высотой в несколько сантиметров или Аякса, который насилует Кассандру с распущенными волосами, обхватившую колонну. Эдуард присел на корточки у низенького столика, любуясь Аяксом размером с ноготок. Эдуард купил все. Они договорились хранить сделку в строжайшей тайне. Обсудили состояние здоровья Маттео Фрире.