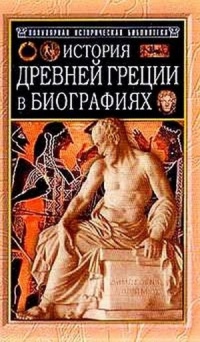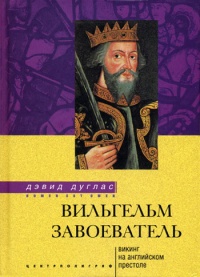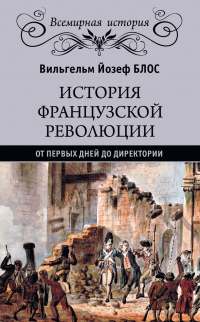прелестную девушку, а до неё бывала красивая Гула, жена Пассета, который уехал с твоим отцом.
Ледша вскричала:
— Низкий клеветник, теперь я вижу тебя насквозь, и теперь я постигла значение твоих предостережений. Ты, презренный раб, питаешь безумную надежду меня обворожить и обмануть; поэтому ты и стараешься всеми способами отвратить меня от твоего господина. Гула, жена корабельщика, посетила Гермона в мастерской, говоришь ты. Что ж, это, вероятно, правда. Если я и недавно вернулась домой, то всё же в Теннисе раздаётся так много похвал геройскому поступку грека, спасшего с опасностью для собственной жизни ребёнка из горящего дома Пассета, что я об этом слышала с десяти различных сторон. Гула же — мать той девочки, которая осталась жива благодаря смелому подвигу Гермона, и нет ничего удивительного в том, что молодая мать постучалась в дверь своего благодетеля, чтобы ещё раз выразить свою благодарность, а ты, нечестный…
— А я, — продолжал, с трудом сохраняя спокойствие, Биас, — я был свидетелем, как не раз и не два проскальзывала незаметно к нам Гула, чтобы дать возможность спасителю её ребёнка вылепить из глины те формы, которые ему в ней понравились. Желать тебя, — знай же, я, раб, сам себе это запретил, хотя неволя не убивает в человеке нежных чувств, подобно тому как загородка не мешает дереву пускать ростки и цвести. Эрос избирает и сердце раба мишенью для своих стрел, но в твоё сердце они попали вернее. Я знаю теперь, как глубока твоя рана, и знаю также, что, как только корабль там в гавани опять увезёт нашу гостью, я увижу тебя в мастерской Гермона и увижу его, оценивающего зорким оком, что в твоей красоте достойно скульптора.
Порывисто дыша, Ледша выслушала его предсказание до конца, но тотчас же, подняв угрожающе сжатую в кулак руку, она злобно прошептала:
— Пусть он только попробует дотронуться пальцем до моего покрывала. Если б я не поехала к овдовевшей сестре, никогда ни наша Таус, ни злополучная Гула не дошли бы до этого.
— Вряд ли, — отвечал недоверчиво Биас, — пойдёт цыплёнок в воду, так ведь наседке не спасти его. Я, впрочем, знал мужа твоей сестры; мы свободными детьми росли одно время вместе. Да, сильный всегда поедает слабого, правое дело — всегда проигранное дело, и боги не лучше людей. Мой отец, поднявший меч против угнетения и несправедливости, поплатился свободой, а твоего зятя рано вогнали в могилу. Правда ли то, что здесь про вас рассказывают? Говорят, что после его погребения рабы его на кирпичном заводе отказались повиноваться его вдове; ты приехала ей помочь и заставила их слушаться. Целая дюжина мятежных рабов, и ты, слабая девушка…
— Я не слабая, — перебила его гордо Ледша, — и будь их трижды двенадцать, я бы им показала, кто их властелин. Они теперь повинуются сестре, но лучше бы я не уезжала из Тенниса. Наша маленькая Таус, — продолжала она мягко, — осталась крошкой после смерти матери, и я, неразумная, вместо того чтобы её охранять, бросила её одну. Если она поддалась обольщениям Гермона, то на меня и только на меня одну падает вина.
Тут сильнее запылавший огонь, в который старуха Табус подбросила новый запас соломы и сухого тростника, осветил лицо взволнованной девушки; на нём отразилось ясно, какая борьба происходила в её душе. Радуясь успеху своих предостережений, Биас сказал:
— От чего ты хотела уберечь Таус, от того же должна ты сама теперь уберечься. Я иду теперь и передам моему господину, что ты отказываешься назначить ему новое свидание.
С уверенностью ждал он подтверждающего ответа и невольно вздрогнул, когда она произнесла:
— Напротив, соглашаюсь, — и, как бы поясняя, добавила, — он должен мне всё разъяснить, где и когда, мне решительно всё равно, если сегодня не может, то пусть завтра.
Обманутый в своих ожиданиях, Биас повернулся, чтобы идти к лодке. Она его удержала за руку.
— Ты должен ещё остаться. Я хочу знать, действительно ли намерен Гермон скоро покинуть Теннис.
— Таково было его намерение сегодня утром, — отвечал невольник. — Да и что нам тут делать, когда его произведение почти окончено?
— Когда же он едет?
— Послезавтра, а быть может, через пять-шесть дней. Ведь мы сегодня не можем знать, что будет с нами завтра. Пока приезжая из Александрии будет здесь, вряд ли он и Мертилос уедут. По всей вероятности, она позовёт их с собой на охоту; она ведь страстная охотница, а так как их работа почти окончена, то они, вероятно, с удовольствием будут сопровождать Дафну.
Говоря это, он уже занёс ногу в лодку, но Ледша удержала его опять вопросом:
— А работа, как ты её называешь? Она была закрыта холстом, когда я была в мастерской, но Гермон сам называл это статуей богини. Что же она представляет? Похожа ли она на мою сестру настолько, чтобы её можно было узнать?
Насмешливая полупрезрительная улыбка появилась на устах Биаса, и он произнёс поучительным тоном:
— Ты спрашиваешь о чертах лица? Нет, девушка, никакое лицо биамитянки не может служить для этого, даже твоё, красавица.
— А для тела богини? — спросила она, волнуясь.
— Для него служила первоначально моделью белокурая Гелиодора, которую мой господин привёз из Александрии, но эта дикая кошка и четырнадцати дней не выдержала в Теннисе; затем приехали две сестры, Нико и Пагис, но им также показалось здесь слишком тихо и безлюдно. Эти бездельницы только и могут жить, что в столице. Впрочем, вся подготовительная работа была уже закончена до нашего отъезда из Александрии.
— Ну а Гула и моя сестра?
— Они обе не годились для статуи богини Деметры, — засмеялся невольник. — Подумай, худощавый, едва сформировавшийся подросток Таус, и вдруг лепить с неё божественную покровительницу браков! А Гула, её свеженькое кругленькое личико недурно, но этого мало, чтобы служить моделью для богини. И такую натурщицу можно найти только в Александрии. Чего там ни делают женщины, чтобы придать красоту своему телу! В храме Афродиты учатся они даже, подобно юношам, читать и писать. А вы, имеете ли вы понятие, как надо подкрашивать губы и веки глаз, как надо завивать волосы и обращаться с ногтями на пальцах рук и ног? А ваша одежда? Ведь у вас она просто висит, а на статуе моего господина вся одежда уложена искусными складками. Но я и так слишком долго здесь пробыл.