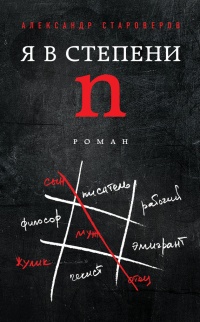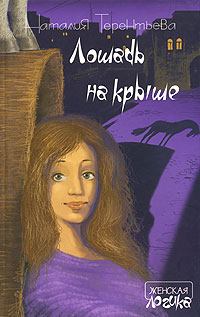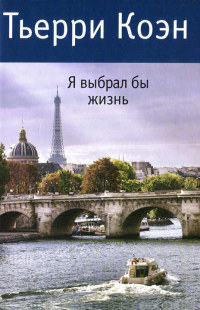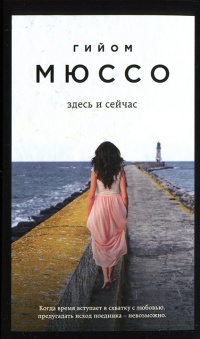завязывается беседа.
— Грунэ, ты знаешь, кто был твой муж, мир праху его?
На бледное лицо Грунэ ложится тень.
— Знаю, — отвечает она, закусив губы.
— Он был сойфером, Грунэ, благочестивым сойфером.
— Знаю, — говорит нетерпеливо Грунэ.
— Прежде чем написать букву, он совершал омовение в микве…
— Враки… Раза два в неделю он, правда, ходил туда…
— Благочестивый был человек.
— Верно.
— Да будет он заступником нашим.
Грунэ молчит.
— Ты молчишь? — удивляется Ханэ.
— Все равно!
— Нет, не все равно! Пусть же он заступится за нас, слышишь?
— Слышу!
— Что скажешь на это?
— Что мне сказать? Я знаю только, что он за нас не заступился…
Пауза. Обе женщины понимают друг друга: благочестивый сойфер умер, оставив вдову с тремя девочками-сиротами. Грунэ вторично замуж не выходила, не хотела дать отчима своим детям, сама работала на себя и детей, но удачи ей не было ни в чем… "Он не был заступником их!.."
— А знаешь почему? — нарушает Ханэ молчание.
— А?
— Потому что ты грешна…
— Я? — вскакивает Грунэ, как подстреленная. — Я грешна?
— Слушай, Грунэ, всякий человек грешен, а ты и подавно…
— Подавно?..
— Повела я тебя за город к реке, в поле недаром… Что говорить, свежего воздуха нам, слава богу, не нужно… Видишь ли, Грунэ… мать, и особенно вдова благочестивого сойфера, должна…
— Что она должна?
— Должна быть богобоязненнее всех, лучше всех и внимательнее смотреть за своими дочерьми…
Бледная Груиэ становится еще бледней. Глаза у нее загораются, и синие, запекшиеся губы дрожат.
— Ханэ! — кричит она.
— Ты ведь знаешь, Грунэ, я тебе верный друг, но правду я все же должна сказать, не то придется мне держать ответ перед богом… Я сплетничать на тебя не буду, из-за меня ты людям на язык не попадешь, все останется между нами, один только бог в небе услышит нас.
— Не тяни душу!
— Так слушай же! Коротко и ясно… вчера вечером, поздно вечером, возвращалась я с вокзала, и на горке сидела твоя Мирл…
— Одна?
— Нет!
— С кем?
— Разве я знаю? Шляпа какая-то… даже цилиндр… Он целовал ее в шею, в затылок… Она смеялась и грызла леденцы.
— Знаю!.. — отозвалась Грунэ замогильным голосом. — Это не впервой.
— Ты знаешь это? Что он ей, жених?
— Нет…
— Нет? И ты… молчишь?
— Да.
— Грунэ!
Но Грунэ уже спокойна.
— Теперь помолчи-ка ты и послушай, что я тебе скажу, — говорит она резко, схватив Ханэ за рукав и заставляя ее снова сесть. — Слушай, — продолжает она, — я тебе все расскажу, и только один бог на небе услышит нас!
Ханэ садится опять.
— Когда муж умер… — начинает Грунэ.
— Как ты это говоришь, Грунэ?
— Как же мне говорить?
— Не говоришь "блаженной памяти"… И нужно ведь сказать "скончался".
— Не все ли равно, скончался, умер? — его ведь похоронили…
— Он вернулся к своим предкам…
— Пусть будет так… только меня он оставил с тремя сиротками-девочками…
— Бедный, он кадиша не оставил.
— Трех дочерей, старшую…
— Генендл…
— Четырнадцати лет…
— У людей такая девушка уже невеста…
— У нас хлеба не было! Не до сватовства было… до помолвки и пряников — подавно.
— Как ты, Грунэ, говоришь сегодня!
— Не я говорю — боль сердца говорит… Генендл, ты знаешь, была самой красивой девушкой в городе…
— И теперь тоже… чтобы не сглазить!
— Теперь она выжатый лимон, дожила до седых кос! Но тогда она сияла, словно солнце… И я была вдовой благочестивого сойфера, я берегла ее, как зеницу ока; я знала, что в нынешние времена… шляются всякие музыкантишки, портные, франтики, старые холостяки… Но на то и мать. Девица в невестах должна быть чиста, как зеркало… И я добилась своего, пылинки на нее не упало, я берегла ее, стерегла, с глаз не спускала, ни на миг она из дому одна не уходила. И все-то я ей наставления, назидания читала: "не смотри туда, не гляди сюда, не стань там, не ходи тут… не смотри, как птички летают…"
— Ну, и очень хорошо…
— Замечательно хорошо! — сказала Грунэ с горечью. — Пойди-ка посмотри, во что она превратилась! Да, она действительно честная девушка, но тридцати шести лет! Худа — хоть ребра пересчитай, кожа сморщена, точно пергамент для филактерий, глаза потухшие, лицо кислое, без улыбки, губы вечно сжатые. Да, часто загораются ее потухшие глаза, но в них горит ненависть, злоба, точно в аду… И знаешь, к кому? знаешь, кого она ненавидит? кого шопотом проклинает она?
— Кого?..
— Меня! меня — свою родную мать!..
— Что ты говоришь? За что?
— Она, возможно, сама не знает за что, но я знаю! Я стала между нею и миром, между нею и солнцем! Я не допустила… как бы это сказать… тепла и света к ее телу… Я думала об этом целые ночи, пока не поняла этого окончательно. Она должна меня ненавидеть… каждая частица ее тела ненавидит меня!
— Что ты говоришь!
— Что слышишь. Сестер своих она, наверное, ненавидит, они моложе ее и красивее!
Грунэ с трудом переводит дыхание, а Ханэ не может прийти в себя… Она слышит нечто ужасное, нечто худшее, чем болезнь, смерть, чем даже "смерть под венцом", — величайшее несчастье, которое может только постигнуть еврея, и все-таки… Владыко мира, так должно быть!
— Младшую, Лею, я уж дома не держала… я ее отдала в прислуги… — продолжала Грунэ, и ее голос стал еще более хриплым, еще более отрывистым.
— Я тогда достаточно возмущалась, — вспоминает Ханэ, — дочь сойфера — и в служанках!
— Мне хотелось хоть ее выдать замуж, пусть хоть у нее будет немного приданого; от моей торговли луком приданого не сберешь… И за ней я тоже смотрела… Не один хозяин поглядывал на нее, не один хозяйский сынок хотел сделать из нее игрушку… Но ведь я мать! И я была преданной матерью! Ноги у меня подкашивались, и все же я десять раз на день бегала на кухню к ней, плакала, падала в обморок, читала мораль ей, хорошие, благочестивые речи говорила… Целые ночи я не спала, "Кав-ганошор" и другие священные книги читала, а по утрам бегала пересказывать ей прочитанное… и добавлять еще свое! Да простит мне бог, из трех чертей я делала десяток, один удар розгой я превращала в "сквозь строй", огнем на нее дышала… И она была кроткой, честной дочерью, и она во всем слушалась… Кроме глаз, она — вылитый отец, бледная, без кровинки; и такие добрые, влажные глаза, но еще красивее…
— Ты говоришь о ней, как об умершей, упаси бог!..
— А ты думаешь, она живет? Говорю тебе, не живет! Она накопила приданое, а мужа дала ей