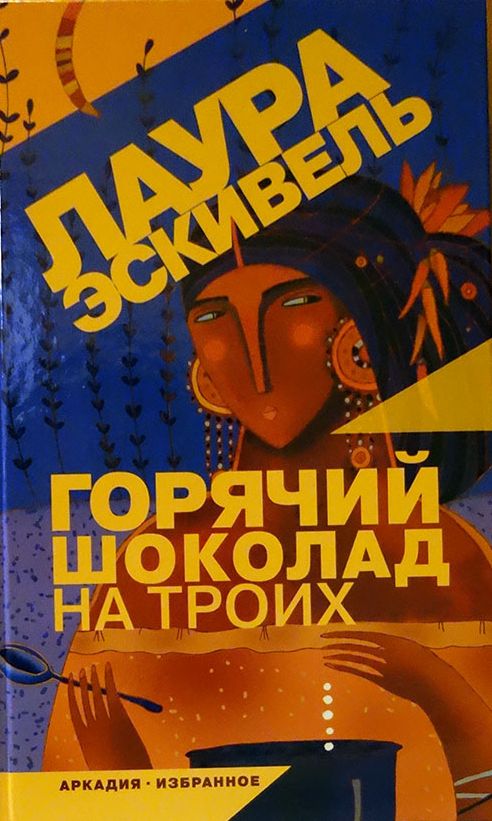тормошить его, дергать, как два шеи ка, прыгали вокруг и тащили за рукав внутрь заведения, где старик Лонжюмо мыл стойку; он глянул на них исподлобья, потом узнал Иеремию и сказал: «А-а, явился, защитничек! Просрал войну-то», — лицо у Иеремии стало каменное, и Лонжюмо добавил: «Валяй, угощаю, все меньше фрицам останется». Иеремия напрягся; все трое подступали к нему с расспросами о фронте, о поражении, о братьях Шеньо, про которых никто не слыхал после Арденнского наступления немцев, то есть целую вечность; они ввели его в курс деревенских дел — кто уже вернулся (Патарен-старший, служивший под Лиможем, демобилизовался, так и не увидев немцев; Лебо зимой получил ранение, обморозил ногу, — комиссовали; Бержерон в шталаге; Бело и Морен вчера приехали на грузовике, и даже ветеринар Маршессо, призванный на фронт, чтобы лечить мулов артиллерийского полка, сумел добраться домой своим ходом) и кого еще ждали, включая его, Иеремию, который наивно полагал, что смущение собеседников вызвано тем, что они все это время отсиживались в тылу; они же засыпали его вопросами, чтобы не говорить про Луизу и ее выдумку с ребенком, — они же все знали, имели жен, матерей и сестер, так что было кому их просветить. Они не спрашивали Иеремию, куда он идет и что делает на улице в столь поздний час, почему не сидит дома с женой, а Иеремия хотя и не большого ума, но догадался, что дело нечисто; ему стало стыдно, он чувствовал, что напился и вымотался донельзя; он опрокинул третий шкалик и, хотя по неписаным правилам теперь был его черед проставляться, сказал, что пора к жене, и свалил, оставив троицу с открытыми от удивления ртами, — они не нашли слов, чтобы его удержать.
Иеремия, пошатываясь, вышел в июльскую ночь, подобрал брезентовый мешок и пошел к тестю. Безалаберный разговор с тремя парнями, по крайней мере, успокоил его в одном: Луиза жива, и Иеремия решил, что она вернулась к матери для удобства, на всякий случай, что имело смысл.
На ферме сквозь ставни еще сочился свет; наверное, вечеряли или поздно вернулись после первого дня жатвы. Иеремия прошел двор, какая-то из птиц закудахтала, собака зарычала, но не стала лаять, он подошел к оконному проему, где ставни были на несколько сантиметров приоткрыты, и увидел, как Луиза при свете керосиновой лампы застегивает ночную рубашку на идеально плоском животе; он даже не взглянул ей в лицо, он следил, как пальцы Луизы вдевают пуговицы, снуя по обе стороны от пупка, не оставлявшего сомнений, что не бывать ему отцом, ни в сентябре, ни вообще; эта весть парализовала его, он так и стоял, прижавшись носом к оконному стеклу, пока Луиза не заметила тень в окне и не завопила от страха: ей показалось, что она узнала лицо мужа, ее скрутило от ужаса, и она стала звать на помощь, — крик хлестнул Иеремию, обжег его, и он, не дрожавший под немецкими бомбами и самолетами, вдруг бросился наутек через поля, словно куриный вор, и только через пару километров рухнул в шелест спелой пшеницы, не в силах поверить и понять.
* * *
Стало быть, Жаклин Герино, известная как Линн, была (втайне, никто не знал) любовницей художника и отшельника полей Максимилиана Рувра, и это длилось уже несколько недель, и прознай об этом жители деревни, они бы сильно удивились и сочли это противоестественным или типа того, точно так же, как в изумлении вытаращились бы парижские друзья и знакомые Макса, не говоря о толстом Томасе, который бы, небось, из ревности стал украдкой плевать Максимилиану в стакан, прослышь он про их кувыркания (так заявлял, по крайней мере, сам художник и хитро улыбался), и только антрополог Давид Мазон подверг их связь более объективному анализу и пришел бы к выводу, что если отвлечься от явных классовых различий, то оба они люди обеспеченные и принадлежат к третичному сектору — сфере услуг, являются самозанятыми представителями творческих про-фесссий, каждый по-своему, и потому их союз с экономической точки зрения вполне возможен, хотя с культурной — удивителен. Линн смотрела на это по-другому: вполне естественное влечение такого Козерога, как Макс, к рожденным под знаком Рака, притяжение астральных противоположностей, сильное и прочное, как у двух магнитов, которые, если их соединить противоположными полюсами, разомкнуть уже невозможно. А Максимилиан вообще ничего не анализировал; он ценил Линн — прежде всего ее роскошное тело, но и попросту характер, дружелюбие, великодушие, собственное мировоззрение — все те качества, которые такой законченный мачо, как он, не мог назвать альтруизмом, тонкостью и умом. Линн сильно страдала оттого, что многие считали ее работу и всех ее коллег ветреными и пустоголовыми, — Макс никогда не вышучивал ее ремесло, наоборот, сравнивал его со скульптурой. В общем-то Макс, в глазах Линн, был идеальным мужчиной, конечно немного инфантильным, но «по сути неплохим», как она говорила; Макс же воображал себя одновременно мужественным в коитусе и нежным после, что, по его мнению, было главным. Таким образом, они встречались уже несколько недель, и Линн втайне надеялась — стараясь не слишком об этом думать и уж конечно ни слова не говоря Максимилиану, — что их роман еще продлится, и потому, увидев огромную стену, сплошь покрытую жуткой мерзостью, не просто отшатнулась, а расстроилась: это открытие, естественно, означало конец их отношений. Она бы могла вынести даже обнаружение многочасовых запасов порнографии, которые таил в себе компьютер Макса, его любовь к огромным бюстам и тучным женщинам — это же прямо Рубенс, сказал бы он, — чьи жирные складки и сиськи качались в такт яростным тычкам профессионалов, но это! Жуть, развешанная в мастерской, была за гранью воображения. И еще ей никак не удавалось понять мотивы Максимилиана. Зачем столько чудовищных фотографий? Несомненно, в них проявились какие-то извращенные фантазмы, которые рано или поздно отыгрались бы на ней. При одной мысли об этом — за рулем машины — ее чуть не вывернуло; к глазам подступили слезы. «Опять облом», — подумала она, ибо глубина разочарования была под стать матримониальным надеждам, и, прибыв через четверть часа домой в Ниор, долго стояла под душем, потом переоделась и отправила Люси серию сообщений, приправленных плачущими и блюющими эмотиконами, после чего снова села за руль (как раз успеет доехать к следующему извращенцу — хозяину бистро) и попыталась забыть в работе жуткие видения недавнего утра.
* * *
Марсьяль Пувро запер траурный зал, где в двух скромных парижских гробах покоились умершие два дня назад молодые супруги — они тихо отравились угарным