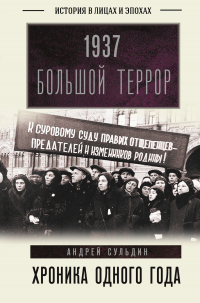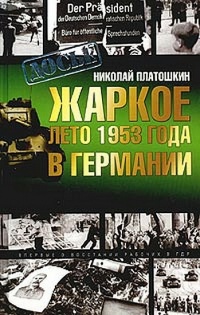так же безвинно, как мог бы попасть и ваш сын, — у вас хватает духа бросить в урну чёрный шар и тем меня погубить. Не забудьте же этого часа, Госвин Стеен, и дай Бог, чтобы это воспоминание не оказалось для вас слишком тягостным. Но я прощаю вам!
После этой краткой речи обвиняемый отвернулся и вышел из залы вслед за окружавшей его стражей, которая отвела его обратно в тюрьму.
А между тем в зале ратуши царило глубокое молчание.
Госвин Стеен неподвижно стоял на том же месте, вперив взор в землю. Правая рука его всё так же нервно теребила бороду, а левая — висела недвижимо и бессильно.
Тогда раздался голос Варендорпа:
— Считаете ли вы вашего сына также виновным, г-н Стеен?
Старый купец вздрогнул. Его чувство справедливости было задето в самом чувствительном месте — рана проникла в самую глубину сердца, где ещё продолжало втайне тлеть отцовское чувство к сыну, несмотря на внешний разрыв всяких отношений с ним. Госвину Стеену в течение одного долгого мгновения пришлось выдержать страшную борьбу. Наконец, он поднялся со своего места, подошёл к зелёному столу, за которым сидел бюргермейстер, и, выпрямившись во весь рост, проговорил отчётливо и ясно:
— Бывают такие вины и такие искупления их, которые не могут подлежать общественному мнению, потому что только отец может быть в данном случае судьёю своего сына. Удовольствуйтесь этим! — Варендорп хотел что-то возразить, но купец продолжал: — Я положил чёрный шар против Иоганна Виттенборга. И если бы вы, господин бюргермейстер, мне задали бы тот вопрос прежде голосования, то я бы, конечно, воздержался от подачи моего голоса. Но теперь дело сделано, и суд должен свершиться. Но знайте, что я не буду присутствовать при этом кровавом зрелище, если бы даже мне самому пришлось за это отвечать головою. Так и знайте, и затем Бог с вами!
И, гордо выпрямившись, твёрдой поступью направился он из зала к выходу. Никто не осмелился произнести ни слова, и только тогда, когда дверь захлопнулась за Стееном, все заговорили разом, шумно выражая самые противоположные мнения и воззрения.
В тот же самый день на любекской торговой площади воздвигнут был чёрный роковой помост, на котором несчастному Виттенборгу предстояло сложить голову. Когда на следующий день солнце стало клониться к западу, осуждённый выведен был на казнь. Пёстрая, разнообразная толпа заполняла все улицы, по которым следовало проходить печальному шествию...
Немногие в этот день сидели дома. К числу этих немногих принадлежал и Госвин Стеен, который не двинулся из своей конторы. Но он не работал: он сидел за столом, подперев голову руками, и был погружен в глубокое раздумье.
Вдруг раздался звон колоколов и загудел, печальный и унылый... Шум и говор на улице все возрастали; масса каких-то длинных и безобразных теней, отражаемых косыми лучами заходящего солнца на задней стене конторы, пронеслась спешно и трепетно, подобно привидениям. Шествие, сопровождавшее осуждённого на казнь, проходило мимо, по улице. Затем шум и говор постепенно затихли — шествие достигло торговой площади. Госвину стало душно в комнате, он открыл окно и опёрся о подоконник.
И вот снова загудели колокола, резко и мерно отбивая похоронный звон... Земное правосудие было удовлетворено. Но Стеену слышался, в ушах его всё ещё раздавался голос, повторявший ему непрестанно: «Не забудьте же этого часа, Госвин Стеен, и дай Бог, чтобы это воспоминание не оказалось для вас слишком тягостным. Но я прощаю вам!»
И этот твёрдый, сильный мужчина затрепетал всем телом и в отчаянии стал ломать себе руки. И взор его ещё раз упал на ярко освещаемый солнцем выступ входной двери. Было ли то утешение, досылаемое ему скорбной душой невинно казнённого, или то был перст Божий, указывавший заблудшему путь спасения, но Госвин Стеен мог совершенно свободно прочесть на стене крупно высеченную надпись:
«Жив ещё старый Бог!»
XX
Бедствия любечан
Суровый приговор, произнесённый любечанами над Иоганном Виттенборгом, как будто проклятием каким-нибудь тяготел над всем городом. Лето и осень были непогодливы и неурожайны; за неурожаями естественно наступила страшная дороговизна съестных припасов. Все дела были в застое после неудачного исхода войны с Вольдемаром, и масса рабочих, и в особенности рыбаков, была отпущена хозяевами. Страшный призрак голода явился на улицах города Любека, покрытых толстым слоем снега; следом за голодом пришли гибель и отчаяние. Сволочи всякого рода в большом городе всегда бывает довольно, а тут вдруг развелось её в Любеке столько, что от воров честным людям житья не стало. Никакая стража, никакой дозор не могли от них уберечь, так что число торговцев на городской площади стало постепенно уменьшаться — никто не хотел выезжать для торга даже и на обычные еженедельные базары.
Ко всему этому прибавилось ещё дурное положение политических дел.
Король Ганон Норвежский был обручён с принцессой Елисаветой, сестрой Генриха Железного, герцога Голштинского. Благодаря какой-то несчастной случайности невеста Ганона попала в плен к аттердагу, который так ловко сумел обойти Ганона, что тот решился избрать себе в супруги принцессу Маргариту, младшую дочь Вольдемара. Этим самым уже обеспечивался союз Дании с Норвегией. Ганзейцы оставались совершенно покинутыми, потому что и на шведов тоже нечего было рассчитывать, пока Швецией правил слабодушный Магнус. Правда, порвав связи со скандинавским государством, ганзейцы сблизились с их соперниками и противниками, Голштинским и Мекленбургским герцогами, и это сближение привело вскоре к прочному союзу; но тем не менее ганзейские города с великой тревогой ожидали конца перемирия с королём Вольдемаром и очень опасались того, что он, пожалуй, вздумает пойти против них войной в союзе с Норвегией и Швецией.
В довершение бедствия появилась в Любеке опустошительная чёрная смерть, завезённая из Азии в Европу в 1348 году. Для страшной заразной болезни в Любеке нашлась благодатная почва, подготовленная нуждою, голодом и всякими лишениями, среди которых влачили своё бедственное существование низшие классы населения. Дикие, раздирающие сцены стали ежедневным обычным явлением любекской городской жизни. Бескормица и безработица вынуждали несчастных мастеровых и незанятых рабочих к тому, что они и последнее пропивали, стараясь хоть на минуту себя отуманить. Смерть пожинала обильную жатву и уносила жертву за жертвой, обозначая путь свой гробами, за которыми следом, вопя и ломая руки, шли брошенные на произвол судьбы сироты и бездомные. Голод, страшный, едва прикрытый лохмотьями, отражался на лицах всех несчастных, словно тени бродивших по улицам города. И только дерзкое преступление, не останавливавшееся ни перед грабежом, ни перед убийством, смело поднимало голову и всем глядело