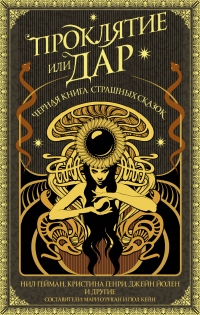По мере того, как я чувствую приближение смерти, ужас, который испытывает всякое живое существо к выходцам из могилы, становится все неодолимей. Как это страшно – негаданно очутиться в обители мертвых, не успев прожить и половину жизни. Тысячу раз страшнее ждать, как я жду сейчас, находясь среди вас, – ужаса, который немыслимо себе представить.
Редьярд Киплинг– Сын мой Джек не прислал мне весть? [1]
У сэра Джозефа Редьярда Киплинга – пушистые усы. В них паутинкой серебрятся нити седины и золотится осенняя пыль – прах умирающих листьев. Я не могу оторвать взгляд от этих усов. Возможно, потому, что иначе мне придется взглянуть ему в глаза.
– Сын мой Джек… не прислал мне весть?
Сэр Джозеф Редьярд Киплинг повторяет этот вопрос упорно, словно стучит в дверь, за которую спряталась моя память. «Я в домике, – хочу выкрикнуть ему я. – Я в домике, в домике, в гребаном домике, которого нам так не хватало там, на Лосе! Там, где не было домов вообще, там, где они осели, рассыпались, превратились в пыль под ударами немецких орудий! Дайте мне хотя бы сейчас побыть в домике!»
– Сын мой, Джек?
Я молчу. Я отвожу взгляд от пушистых усов, серебряной паутины седины и золотого праха листьев. Я не знаю, что сказать.
Прости, Джек, я правда не знаю, что сказать твоему отцу.
– Джон, – представился он всем нам. – Джон Киплинг, – добавил чуть тише.
Ему семнадцать, он невысокого роста, а щеки еще по-младенчески пухловаты. Его глаза глядят чуть растерянно – как у всех близоруких людей. Очень близоруких людей. Мы уже знаем, что медкомиссия дала ему отвод – сначала от службы на флоте, а потом вообще поставила крест на его службе в армии. Вести разлетаются здесь очень быстро – как вспугнутые воробьи по пшеничному полю. А мы жадно поглощаем их – как оголодавшие лисы беззаботных птах. В том нет досужего любопытства или унылой праздности: каждая весточка о том, что происходит на английской земле, нам словно письмо из дома.
– Сын сэра Редьярда Киплинга пытается поступить на службу!
Кто первый обронил это в нашем окопе, среди глины, песка и мокрой жижи? Какая разница – мы схватили эту новость и растерзали ее как свежий труп. Сын самого Киплинга! Пытается пробиться к нам – в эту грязь и дерьмо, отчаяние и страх! В этом была какая-то суровая, беспощадная справедливость – ведь Киплинг, нобелевский лауреат, гордость Туманного Альбиона, наш поэт, прозаик, почетный профессор кучи университетов, – он не струсил, не бежал, не зарылся в джунгли своей любимой Индии! Он остался здесь – и его голосом говорят листовки, его имя – под колонками в газетах, наполненных патриотическими воззваниями, он говорит о том, что каждый англичанин, ирландец, шотландец, валлиец должен забыть все распри – и стать единым фронтом, и пойти вперед, и уничтожить тех, кто угрожает изумрудным лугам и суровым скалам наших островов. Мы читали эти строчки, мы слушали эти речи – и они проникали в нас, они питали наши души, и мы брали ружья, и шли на фронт… Сын сэра Редьярда Киплинга должен быть среди нас – потому что как иначе?
– Сына сэра Редьярда Киплинга не берут на службу! – и снова эти слова разнеслись по окопу, как просачивается вода после ливня.
Мы крутили головами, пытаясь понять, кто же такой резвый, кто же такой любопытный, кто же успел узнать – и принести это нам. Но окоп уже жужжал, как разворошенный улей. Сына Киплинга не берут на службу? Это было смешно! Мы хохотали, валясь на дно окопа, вымазываясь в желтой жиже, держась за животы, разевая рты в унылое свинцово-сизое небо, нависающее над нами, как крышка прогнившего от сырости ящика. Это было невероятно смешно. Мы словно видели, как эту новость воспринимает сам Киплинг – представляли, как топорщатся от негодования его моржовые усы, как краснеют от осознания позора щеки. Мы не были злыми, нет – в редкие минуты передышки на войне непозволительная роскошь быть злыми – нам просто было смешно.