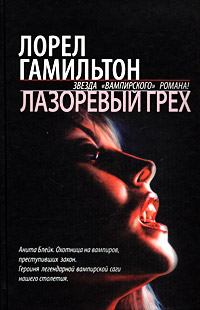Да, а где же остальные стражи? Не сам же пришел сюда этот полицейский.
– Мередит! – окликнул меня Шолто. – Ты задумалась, а нам с тобой надо двигаться слаженно, чтобы его нести.
Я кивнула:
– Прости. Я просто задумалась, где теперь другие стражи. С ним должен был кто-то остаться.
Мне ответил полицейский:
– Они ушли с Рисом и тем, которого зовут Фален... нет, Гален. Они забрали тело вашей... – Он запнулся, словно уже наговорил лишнего.
– Моей бабушки, – договорила я за него.
– У них были лошади, – сказал коп. – Лошади внутри больницы, и никому дела не было.
– Они были белые и сияющие, – вздохнула сестра. – Такие красивые!
– Они все были верхом, кажется. Так на лошадях и уехали, – заключил коп.
– Их захватила магия, – сказал Шолто, – и они забыли прочие свои обязанности.
Я прижала Дойла к себе и вгляделась в его лицо, склоненное к груди Шолто.
– Я слышала, что выезд фейри может заставить сидхе забыться, но не понимала насколько.
– Это очень похоже на Дикую охоту, Мередит, только не жуткую, а мирную или даже веселую. Этот выезд был скорбным – твою бабушку увозили домой, но будь это праздничный выезд, с песнями и музыкой, и они могли бы всю больницу за собой увлечь.
– Они казались такими мрачными, такими горестными... – сказала сестра.
– Для вас это было только к добру, – сказал Шолто.
Я глянула на сестру: она смотрела на Шолто во все глаза и казалась чертовски близка к эльфову шоку – так называют состояние, когда человек настолько очарован одним из нас, что готов на все, только бы находиться рядом с предметом обожания. Очароваться можно и самой волшебной страной, но сейчас перед глазами людей не сияли волшебные подземные чертоги, так что этой проблемы не возникало. Зато лицо Шолто не уступало красотой ни одному лицу в стране фейри, и в короне из цветущих трав с нежной россыпью ярких бутонов он казался выходцем из легенд и сказок. Наверное, ко мне это тоже относилось.
– Нам пора, Шолто.
Он кивнул, словно понимая, что я не только о здоровье Дойла забочусь. Надо было уйти от людей, пока они совсем не потеряли голову.
Мы пошли к двери, поддерживая Дойла и связанными, и свободными руками. Тонкая рубашка на Дойле сползла, и мы касались голой кожи. Должно быть, шипы его кололи, потому что он постанывал, ерзая в наших руках, как потревоженный во сне ребенок.
– У вас течет кровь, – сказала сестра, глядя на пол. За нами тянулась дорожка из капель крови. Почему она смогла увидеть кровь, когда розы прикоснулись к Дойлу? Ладно, с этим потом, сейчас надо скорей возвращаться. Я вдруг почувствовала себя Золушкой, услышавшей звон часов.
– Нам надо немедленно добраться до сада и постели.
Не сказав ни слова, Шолто ускорил шаг. Он попросил полицейского придержать нам дверь, что тот и сделал без возражений.
Из открытой двери крикнул врач:
– Принцесса Мередит, вы в своей палате стены растворили!
Да, как-то нехорошо вышло. Но не могла же я указывать первозданной магии, что ей делать с той палатой, где я очнулась всего лишь сегодня вечером – хотя казалось, что уже дни прошли.
Услышав эту фразу, все, кто был рядом, повернулись к нам. Мы шли сквозь море потрясенных взглядов и открытых ртов. Поздно было прятаться.
– Найди еще кого-нибудь, кто стоит на грани, – попросила я Шолто.
Он направился к пациенту в кислородной палатке. Женщина у постели подняла к нам заплаканное лицо:
– Вы ангелы?
– Не совсем, – сказала я.
– Помогите ему, пожалуйста!
Я глянула на Шолто и начала уже говорить, что не смогу, но тут на кровать упала белая роза из моей короны. Она легла на одеяло – сияющая, неимоверно живая. Женщина взяла ее дрожащими руками и расплакалась снова.
– Спасибо, – сказала она.
– Уведи нас домой, – прошептала я Шолто. Он повел нас вокруг кровати, и внезапно мы оказались на краю сада, снаружи от костяных ворот. Мы вернулись, мы спасли Мистраля и Дойла, но меня преследовало лицо той женщины. Почему упала роза, почему женщине стало лучше при виде нее? Почему она нас благодарила? Целитель-горбун – Генри – отворил нам ворота. Нам пришлось протискиваться в них боком. Ворота закрылись за нами без помощи Генри. Смысл был ясен: пройти в сад можно было только нам. На меня навалилась вдруг усталость, страшная усталость. Дойла мы положили рядом со спящим Мистралем, сняли с него больничную рубашку и забрались на постель. Наши с Шолто руки так и оставались связанными, что было очень неудобно, но оба мы как будто знали, что лечь нам нужно по обе стороны от раненых. Я думала, что не засну с шипастым браслетом на руке и пышной короной в волосах, но сон накатил на меня волной. Я успела еще увидеть с другой стороны от Мистраля Шолто, тоже в цветущей короне, тесно-тесно прижалась к Дойлу, и сон охватил меня в одну секунду. Сон и сновидения.
Глава пятнадцатая
Сон начался с холма, как многие другие мои сны в волшебной стране. Я знала, что холм не настоящий. Это скорее был образ, идея зеленого пологого холма. Не знаю, то ли этот холм существует только в сновидении, то ли это прообраз холма, с которого берут начало все существующие холмы. От его подножия расстилалась зеленая равнина, пестрея возделанными полями. В прежних снах я стояла на холме и смотрела, как к стране подступает война, и та же равнина была суха и мертва. А теперь она бурлила жизнью. Золотилась пшеница, как в пору урожая, но на других полях ростки едва пробивали тучную землю. Равнина, как и холм, воплощала идею поля. Пусть нога ступала по ней как по твердой земле – и я знала, что если пройду дальше, то смогу потрогать листья, растереть в пальцах зерно, очищая его от сухой шелухи, все как в жизни – все равно она не вполне реальна.
На вершине холма недалеко от меня стояло дерево – громадный ветвистый дуб. На одних ветках едва разворачивались первые зеленые листочки, на других листья развернулись во всю ширь, и виднелись между ними маленькие зеленые желуди, на третьих листва потемнела, как бывает поздним летом, и желуди подросли, потом пышные осенние ветки с золотистыми спелыми желудями, и наконец – голые ветки зимы с торчавшими кое-где сухими листочками и редкими неопавшими желудями. Глядя на переплетение темных ветвей, я знала, что они не мертвы, а просто спят. Когда я впервые увидела этот дуб, он был мертв и безжизнен, а теперь – именно такой, каким должен быть.
Я прикоснулась к коре дерева: она звенела басовой, глубокой энергией, как свойственно старым деревьям. Словно стоит хорошенько прислушаться – но не ушами, – и ты услышишь. Услышишь руками, щекой, прижатой к прохладной шершавости коры. Почувствуешь, прижимаясь к твердому боку дерева, как бьется внутри жизнь – медленный, глубокий пульс, вначале как будто внутри ствола, а потом понимаешь, что это пульс самой земли, словно бьется сердце планеты.