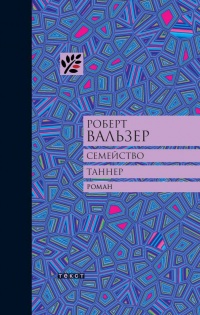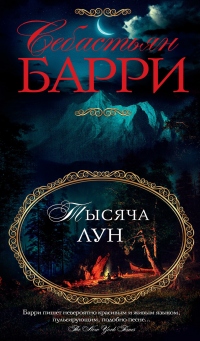Она тихонько рассмеялась. Кундри! Заперла двери и сняла джелабу, платье, в котором выступала, и украшения. Затем посмотрела на Старый город и прошептала имя далекого Бога — имя, что возглашалось городу, — закрыла ставни и легла спать.
13
Лукас подобрал ее у Дамасских ворот среди послеполуденной городской суеты. Пока он дожидался, таксисты постоянно требовали, чтобы он убрал свою машину.
— Хотя бы позавтракала? — спросил он.
— Выпила кофе. Горячий и сладкий. Отлично взбодрилась. А ты как?
— Нормально. Только голова трещит с похмелья.
— Бедолага. Впрочем, я не удивляюсь. Бог знает что у Стэнли в тех бутылках.
Он снова сказал, что ему очень понравилось, как она пела. Сония отмахнулась от его комплиментов.
— Так каково, — спросил он, когда они мчались на север по прибрежному шоссе, — быть последовательницей суфизма в Иерусалиме?
— В Иерусалиме мало настоящих суфиев. Несколько бекташей живут в секторе, — ответила она, а еще рассказала об Абдулле Уолтере и о Тарике Бергере.
Они свернули на дорогу, ведущую вглубь страны вдоль трехуровневого нагромождения Хайфы, среди холмов, засаженных молодым лесом. Время от времени они проезжали развалины арабских деревень. Попадались новые городки с высокими десятиэтажными домами и центральной площадью, окруженной современными сводчатыми строениями. Некоторые площади были украшены декоративными деревьями, увитыми гирляндами ламп.
— Тогда зачем жить в Иерусалиме? — спросил он.
— Затем, что это святой город, — сказала она, и он подумал, что она шутит. — И мне позволено там жить. Но если бы Бергер жил в Цюрихе или еще где, я поехала бы и туда.
— Это слишком дорого. Что привело тебя к суфизму?
— Страх, — ответила она. — Ярость. Вот что.
— Страх и ярость, — сказал Лукас, — это мне знакомо.
Чуть погодя она сказала:
— Ты наполовину в этом, наполовину вне, я права?
— В чем?
Она промолчала.
— Ты чувствуешь то же самое? — спросил он.
— Я чувствую себя вдвойне внутри, — сказала она. — Гордой и прямодушной. Все это несу в себе.
Ему это понравилось, и он рассмеялся:
— Всем надо быть такими, как ты.
— Неужели? — холодно сказала она. — Как я? Ну и ну!
— Ладно тебе, ты знаешь, о чем я.
Скоро дорога пошла на подъем. Пейзаж делили ограды кибуцев. Пространство ширилось. Час спустя дорога поднялась к вершинам высоких холмов, поросших молодыми кедрами. Вдалеке виднелись пики гор, и небо казалось выше и голубее, чем на побережье. Над головой тянулись перистые облака.
— Красиво, — сказал Лукас. — Никогда здесь не был.
— Да. Галилея красива.
Он спросил о ее подругах-европейках, и она объяснила, что всех этих женщин знает по работе в ооновских фондах в Судане, Сомали и секторе Газа.
— Я окончила квакерскую школу, — сказала она. — Так что после колледжа пошла работать в Комитет квакеров[133]. Затем десять лет жила на Кубе.
— И каково там было?
— Я жила в деревне. Там было хорошо. Люди простые, дружные и трудолюбивые.
Она сказала это с такой серьезностью, что Лукасу на мгновение страшно захотелось пожить подобной жизнью.
— Тогда почему уехала оттуда?
Она пожала плечами, не желая пускаться в объяснения. А поскольку он решил, что хочет понравиться ей, не стоило быть настырным. Но какая-то причина тут явно была.
— Политика достала?
— Я не антикоммунистка, понимаешь. Никогда ею не была. Мои родители были хорошими людьми.
— Но ты оставила Кубу и… так далее.
— В конце концов оставила. Вернулась в Нью-Йорк.
И ударилась в религию, подумал про себя Лукас, хотя ничего не сказал. В этот момент он готов был поверить, что понимает ее. Она была человеком, которому необходима близость к вере, как и ему. Это понимание и ощущение, что тут она похожа на него, пробудили в нем чувство нежности. А еще ему действительно нравилось, как она поет.
— Это там ты училась музыке?
— Я всегда пела. Взяла несколько уроков у Энн Уоррен[134]в Филадельфии, затем курс в Джульярде[135]. Так что училась, да, но пела в основном просто ради удовольствия.
Сафед стоял на двух холмах, возвышаясь над террасными полями на склонах; сверху открывался вид на Ливанские горы. Его узкие улочки, мощенные булыжником, в благоговении располагались под темно-голубым сводом небес.
— Какой свет! — сказал Лукас.
— Да, свет тут особый. Избавляет от страха и ярости.
Более или менее таким Лукас и представлял себе этот город. Он поехал по главной улице, огибавшей основной холм с руинами крепости крестоносцев на самом верху. С другой стороны холма открывался еще более захватывающий вид. Можно было различить вдалеке голубой блеск Галилейского моря[136]и горные пики за ним.
— Приехали, — сказала она. — Останови здесь.
Они были в начале узкой улицы, спускавшейся в квартал художников. Это был арабский город.
— Хочешь пойти со мной? — спросила она.
— Конечно.
Чистые булыжники мостовой, свежепобеленные стены домов. Прелестная улочка, подумал Лукас, до совершенства не хватает только чуточку грязи. По обеим ее сторонам шли художественные студии с выставленными в окнах-витринах образцами вдохновенного или религиозного искусства: латунные меноры, картины маслом, изображающие стариков в молитвенных покрывалах и хасидов, танцующих во славу жизни, композицией напоминающие полотна Брейгеля. Улица была столь узка, что витрины были снабжены автоматическими включателями для подсветки картин.
На следующем повороте они увидели женщину, высокую красавицу со скрещенными на груди руками, которая стояла в нервном ожидании. Лукасу подумалось, что когда-то и где-то уже встречал ее.