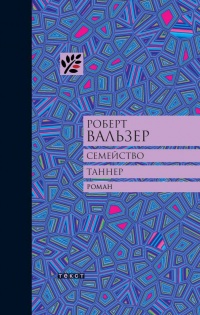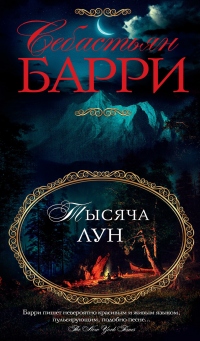— Вот что я думаю, Крис. В отличие от пустоты здесь, там кое-что есть. Замысел.
— То есть?
— То и есть. И этого более чем достаточно.
— О, это мне нравится! — сказал Лукас.
Мнение вполне знакомое, подумал он, но высказано было мило. В нем зашевелилась симпатия к ней.
— Родители у тебя верующие? — спросил он.
— Мои родители были американскими коммунистами. И атеистами.
Лукас взглянул на нее, и его пронзило ощущение какой-то внутренней их близости. В ней смешались две расы, и она была дитя старых левых. Достаточно было увидеть ее лицо, чтобы ощутить это.
— Но это тоже вера, — сказал он.
— Конечно. Коммунисты верят, что все подчиняется замыслу. И что человек может быть частью его. Они верят в лучший мир.
— Тот, в котором они будут командовать.
Она перевела на него спокойный взгляд, чья строгость смягчалась тенью усталого юмора. Как она умна и хороша, подумал Лукас. И позволил себе вообразить, что нравится ей.
— А ты, Крис? Расскажи о себе.
— Ну, отец был профессором в Колумбийском. Родом австриец. Мать — певицей. Потому-то, наверно, мне и нравится слушать пение.
— Отец — спрей?
— Верно. А у тебя кто?
— Мама.
— Ну что, проходишь. А вот меня наши мудрые предки отсекли.
— А тебе не все ли равно? — спросила она. — Или ты верующий?
— Воспитывался в католической вере.
— Значит, и сейчас остаешься католиком, так?
Лукас пожал плечами.
— Вот, смотри, — сказала Сония и, вырвав страничку из блокнота Ближневосточного агентства, написала адрес. — Заберешь меня завтра здесь, оттуда поедем в Сафед и встретимся с человеком, который может быть тебе интересен. Перевезем его в Иерусалим. А по дороге сможешь спрашивать его о чем угодно.
— Идет!
— Надеюсь, ты не против слегка развеяться. Бывал в Сафеде?
— Никогда.
— Тебе там понравится. Потерпи чуток.
На базаре в восточной части города уже кипела жизнь, когда Сония шла к Бергеру. Возле Дамасских ворот разгружали рефрижератор, бросая бараньи туши в белые тачки. Грузчики провожали Сонию взглядами. Она была в развевающейся джелабе поверх концертного платья. Обычно она договаривалась с тель-авивскими друзьями матери, что переночует у них, но одинокий умирающий Бергер нуждался в ней.
Она поднялась по ступенькам к его жилью и достала ключи. Когда она вошла, Бергер не спал. В комнате стоял запах болезни. Он наблюдал за ней из-за занавески, где была его постель.
— Ты виделась с тем парнем из Америки. — Обезболивающее развязало ему язык.
— С Раззом? Да, видела Разза сегодня. Мы играем вместе. Он теперь живет в Сафеде.
— Сафед, — мечтательно повторил Бергер.
Жужжат, жужжат, подумала она. Реально умирает. Мухи гудели и стукались об инкрустированный столик, стоящий возле его кровати.
— Положись на меня, — сказала она. — Я не допущу, чтобы ты умер в одиночестве.
— На родину тянет, — признался Бергер. — Хочется услышать немецкую речь. Слушать без слез.
— Мы отвезем тебя на родину, Бергер. Не тоскуй понапрасну.
Он постепенно успокаивался по мере того, как отпускала боль. Когда он снова заулыбался, сквозь кожу проступил череп.
— Вспоминаю озера. И все такое. Что хочется увидеть еще раз. Сказать «здравствуй и прощай».
— Да, дорогой.
Она подумала, что видела великое множество смертей. Это неизбежно. Все умирают. В Байдоа у нее на глазах угасали дети, как маленькие звездочки.
— Когда я уйду, — сказал Бергер с неожиданным наркотическим воодушевлением, — явится кое-кто.
— Кто это будет? — спросила она. — Махди?[129]
— Не смейся над такими вещами.
— Кто же тогда?
Тут он сам хитро усмехнулся. Но усмешка сползла с его лица.
— Когда я уйду, — сказал Бергер, — тебе стоит тоже уехать в Сафед.
— Я думала, ты не хочешь, чтобы я виделась с Раззом. В любом случае мне не нравится в Сафеде.
— Тебе нужно быть среди евреев.
Она рассмеялась:
— Нужно? Что ж, вероятно, и буду. Так или иначе.
Позже, когда стало совсем светло, она придвинула стул к раскрытой мавританской двери и смотрела, как ползут, укорачиваясь, тени во дворике внизу. Узкие листья оливы трепетали на легком ветерке. Так прошел час или больше. Когда дворик окончательно погрузился в тень, она встала и сварила кофе. У Бергера был только израильский «Нескафе».
Болеутоляющего в кедровой коробке на туалетном столике у него в нише было достаточно. Сония подозревала, что скоро ему потребуется более сильнодействующее средство. Она насыпала в стакан сухого апельсинового сока и долила холодной воды из кувшина в мини-холодильнике. Затем со стаканом и новой таблеткой присела к Бергеру на кровать. Спящий Бергер заметался и заскрипел зубами. Проснувшись, посмотрел на нее мутными глазами и попытался что-то сказать сквозь стиснутые зубы. Она помогла ему раскрыть рот, чтобы принять таблетку, и поднесла к губам стакан. Он запил таблетку и стал хватать ртом воздух, словно нечем было дышать.
— Поспи еще. Поспи.
Прежде чем повернуться на бок, он прошептал, как ей послышалось: «Кундри». Она должна спросить, правильно ли поняла его, помнит ли он, что сказал.
— Это ты обо мне, Бергер? Я — Кундри?
Если так, то они как Кундри и Амфортас[130], подумала она. Надо же! Насколько же под оболочкой суфия в нем жив немец! Мысль, что она как Кундри, заставила ее вспомнить Страстную пятницу, Линкольн-центр. На спектакль тогда ее пригласил один швед, редактор, алкоголик и бывший маоист. За дирижерским пультом стоял Джеймс Ливайн[131]. Швед то засыпал, то, просыпаясь, плакал. Он явно позабыл заветы председателя Мао и превратился в допотопное чудище — ожившего, хлюпающего носом вагнерианца.
Она укрыла Бергеру плечи лоскутным одеялом и коснулась одеяла лбом. От него пахло, как от однажды виденной ею дворняги, которую забила камнями ребятня в Иерихоне.