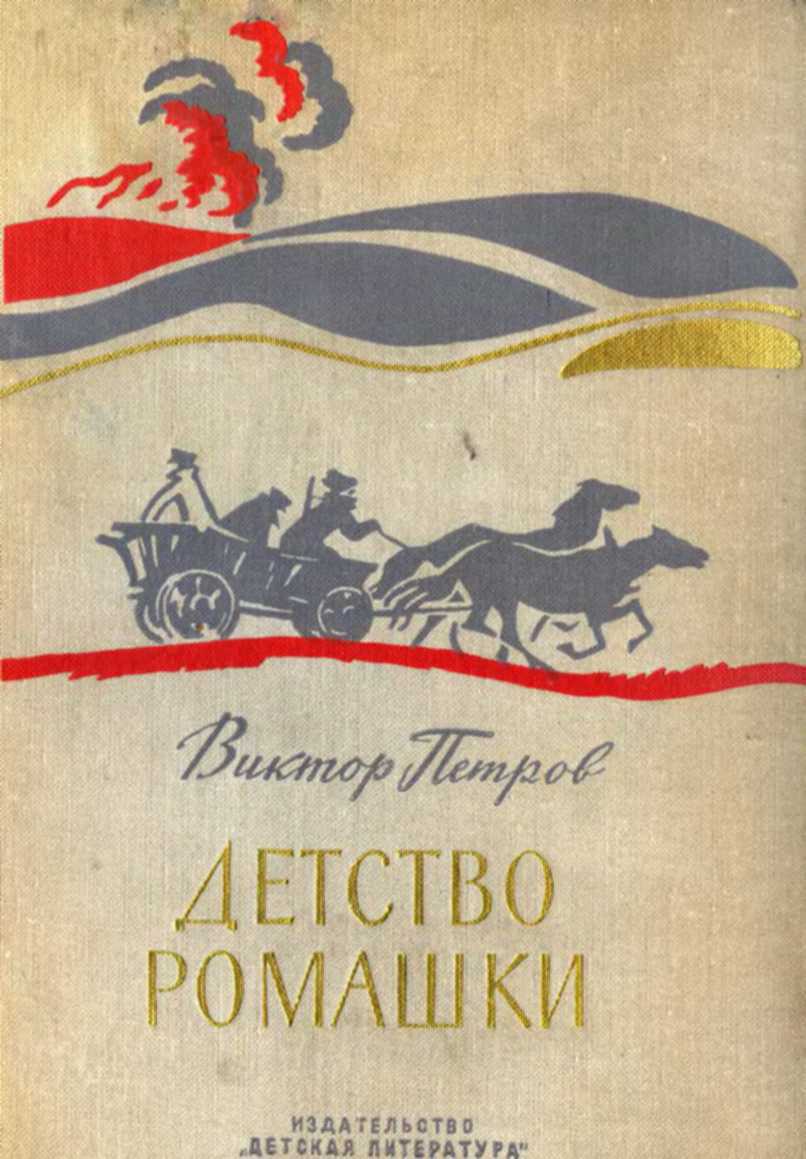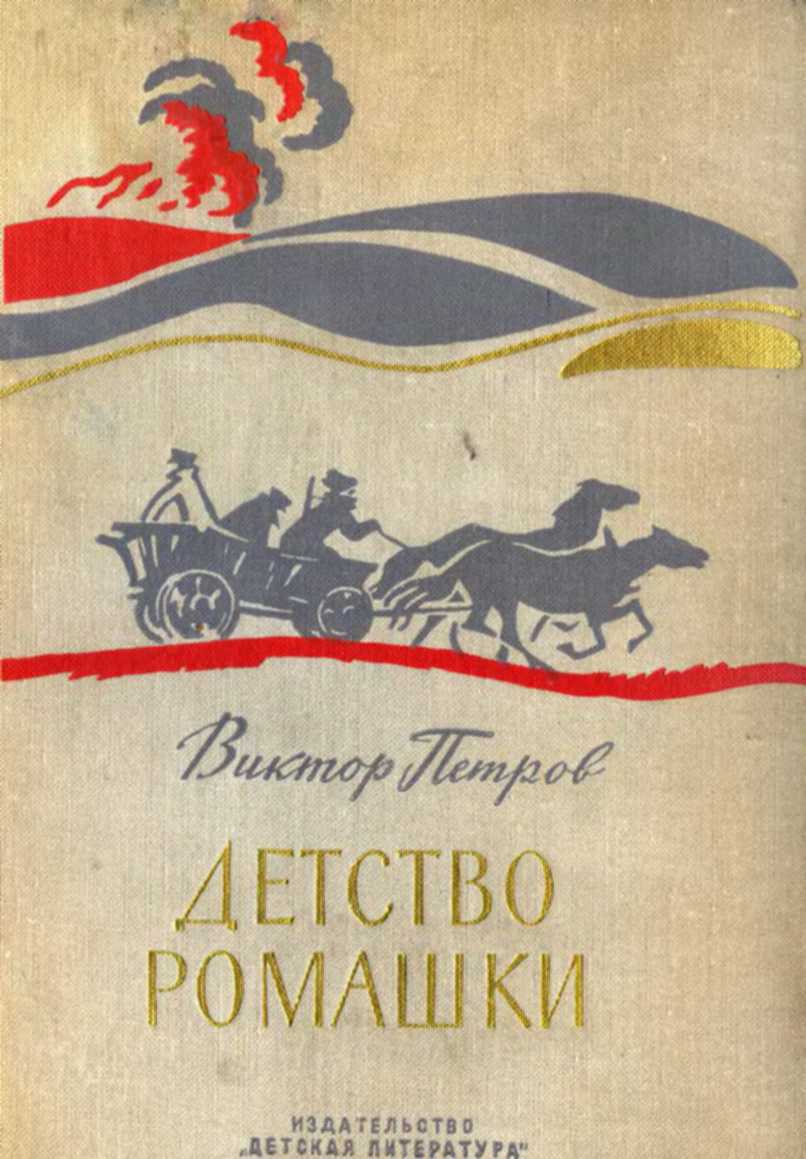ладаном от горевших лампадок под образами, какими-то едкими лекарствами — помогал отодвигать столы, стулья, раскрывал визгливые дверцы шкафов, отомкнул с прибауткой здоровенный сундучище. Сам выгреб пронафталиненные саки, полушубки романовские, тряпье, годное только на ветошки. Тенью двигался за ним его бывший работник — глухонемой парень — косматый, длиннорукий, скуластый. Крутил головой по сторонам, точно птица, следил за движением губ хозяина, за движением его рук. Один знак бы ему — и бросился бы на агентов, ломая им кости этими тяжелыми кулаками. Но хозяин ни о чем не беспокоился — он все посмеивался, а то принимался жаловаться на времена.
— С чего бы я своих дочерей да внуков в деревню отправил, Семен Карпович? От хорошей да сытой жизни. Сам корочкой питаюсь да квасом, да молитвами. Хорошо еще, что бога не реквизируешь.
— Это верно, — согласился, улыбнувшись Семен Карпович, — разве только, что если голову снимешь с плеч. А погребочек где у тебя, Ферапонт Илларионович? Не во дворе?
Наверное, в глазах старика успел заметить какое-то замешательство, хмыкнул удовлетворенно.
— Какой тебе погребок, Семен Карпович, — спускаясь вслед за ним по осклизлой деревянной лестнице, покрикивал уже обеспокоенно Ферапонт. — С чего бы… Да ну коль не веришь, ищи. Вон тебе и сарай с лошадью. Обыскивай — я весь нараспашку. Коль за душой ничего не прятал, душа прозрачная…
— Прозрачная, значит, — бормотал Семен Карпович, обходя сарай, остукивая углы. Всхрапывала сонно, стукала копытами гнедой масти лошадь. Семен Карпович похлопал ее по морде, как будто хотел спросить о чем-то. Подмигнул Косте зачем-то и ни слова не говоря, вдруг пошел к оврагу. Остановился возле заржавелых балок, сваленных грудой возле забора и оглянулся на Ферапонта, пристально глядевшего на него, на глухонемого, сжавшего кулаки за спиной Николая Николаевича. В наступившей резкой тишине услышал Костя и шум листвы от предутреннего ветерка, плеск волн, внизу под кручей, тяжелое дыхание Ферапонта, сопенье Семена Карповича.
— Откуда балки, Ферапонт Илларионович? От гимназии натаскал? А главное для чего? На постройку если, так не поверишь. Себе на могильный памятник — так некрасивый получится из такой ржави.
Хозяин молчал, только хахакнул и потер бороду. Семен Карпович опять мигнул Косте и Савельеву. Втроем они принялись оттаскивать балки в сторону, вдыхая растревоженный железом горький запах полыни. Такая же горечь поплыла меж зубами у Кости. Он сплюнул и тут увидел припорошенный землей люк. Его подняли разом и открылся в земле неглубокий с осыпавшимися стенами погребок. Чернели в глубине две бочки, годные для засолки огурцов или капусты. В одной из них хранился изюм, в другой почерневшая засохшая мука. Бочки вытащили на землю — и вот тут не выдержал Ферапонт Луканичев. Он взмахнул костлявым кулаком, закричал:
— По миру пускаешь меня, Семен Карпович. Уморить хочешь голодной смертью.
Рыкнув, шатнулся было к ним глухонемой, но остановился, увидев дуло нагана в руке Николая Николаевича. Послышался его насмешливый и злой голос:
— Все слежу я за твоим слугой, Ферапонт Илларионович. Эк, пса натаскал. Чистый волкодав. Вели ему убраться в сторону, а то ненароком положим его в этот погребок.
Ферапонт обмяк сразу, махнул рукой глухонемому. Тот потоптался, присел на корточки. А старик, уже плачущим голосом, стал выкрикивать:
— Выслуживаешься, ты Семен Карпович. Бывало раньше обходил нас стороной, не трогал без нужды, ели хлеб и соль пополам. Теперь отнимаешь на манер комиссаров.
— То ли еще отняла кой у кого революция — глухо ответил ему Семен Карпович, отряхивая фуражку. — А то эка — изюм, да мука…
Он постучал сапогом по бочке, уже с каким-то удовольствием прибавил:
— Подкормим, глядишь, пролетариат, голодных рабов…
И подумал невольно тут Костя: вот ведь, ругал Шаманова Иван Дмитриевич Яров, будет он чужой для революции, мол, наплевать ему на нее, а Семен Карпович отыскал продукты. Коль чужой был бы, не открыл бы этот погребок, ушел бы, и дело с концом. Не стал бы обижать бывшего лавочника — вон как ненавидит сейчас он Семена Карповича. Снова стали симпатичны ему эти черные усики, капризная губа, выгнутый носик, красные сапоги, фуражка, запачканная землей и мукой.
— Иван Дмитриевич похвалит вас теперь, Семен Карпович. Вон сколько муки да изюму…
Шаманов усмехнулся, услышав эти слова:
— Его похвальбы мне, Константин, не дождаться. Разве что если Колю заметем мы с Николаем Николаевичем.
Савельев, пряча папиросу, в ладонях, отворачиваясь от ветерка, летящего с реки, вмешался в разговор:
— Слышал я вчера, будто наказали из комитета партии взять Артемьева в августе. Строго наказали, а то и не усидеть вроде бы Ярову на своем стуле…
Он обернулся к старику, застывшему на месте, прикрикнул:
— Чего встал — запрягай лошадь, повезем добро в милицию. Ну… — прикрикнул он и выругался матерно. Старик похромал к сараю, а Савельев, пристально глядя ему вслед, спросил Шаманова:
— Как думаешь — не из склада эта мука с изюмом?
Семен Карпович покачал головой:
— На складе изюма не было. И мука старая, залежалая. Из своей лавки берег старик, это уж точно. Одна только и есть улика, что старик да гнедая лошадь.
23
В первых числах августа ушел на фронт бывший матрос с крейсера «Баян» Македон Капустин и утонула Настя. Узнал об этом Костя, вернувшись из уезда, где несколько дней разыскивал угнанную конокрадом лошадь. Лошадь нашел, вернул хозяевам, а конокрада — парня крикливого и злого, что оса, пригнал в город, в уголовный розыск.
Здесь на удивление было тихо. Лишь в камере, за барьером, на куче тряпья, похрапывал мужчина, наверное, задержанный за праздношатательство или бесписьменность. На скамье для арестованных сидели, толкуя о чем-то Николай Николаевич и Ваня Грахов. Рядом с ними обедал Семен Карпович. Он совал в корзиночку-плетенку огурец, макая его в соль и хрустел смачно, с любопытством при этом разглядывая Костю, грязного, потного, прокопченного ветрами и солнцем, покрытого пылью с ног до головы. И злющего тоже, голодного. Поняв это, протянул вареную картошину, огурец, кусок хлеба.
— Сегодня могу поделиться, а завтра полудневной паек отдавать всем придется в пользу Красной Армии. А потом чайку попьешь, — постукал он по бутылке, выглядывавшей из корзинки. — Вот так и я нажил со временем буркотню в брюхе. Сегодня не ешь, не пей, да завтра, а может и послезавтра.
Он вздохнул, снова принялся хрупать остатками огурца, да вспомнил:
— А у нас новость во дворе, Константин. Настька, дочь Силантия, потонула. Три дня не была дома. Силантий заявлял нам. И Ольга его забегала ко мне не раз. Думали все, что сбежала с каким-нибудь гусаром. А день тому назад отыскалась в Волге, утянуло за аэропланный завод. Посмотрел Силантий — признал,