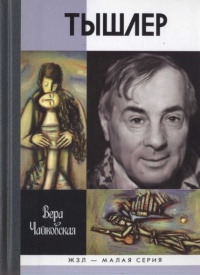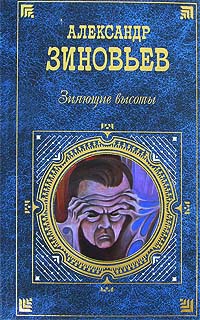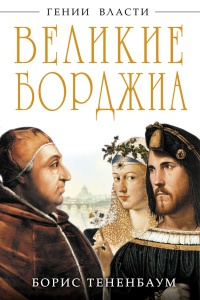Глава первая
ПОЕДЕШЬ НА СЕВЕР, ПОЕДЕШЬ НА ЮГ…
«Море мне всегда напоминало счастливые полосы жизни… Каким ярким мне показалось Черное море, когда я вылетел на самолете из Москвы в темное осеннее дождливое утро, а через несколько часов уже писал пейзаж в Одесском порту. Цветовой контраст был ошеломляющим: было такое впечатление, что я долго носил черные очки и вдруг их снял. В связи с юбилейным изданием большой книги „Великие моря и океаны Советского Союза“ Наркомат Гражданского флота предложил группе художников поехать за материалом в разные точки страны. Я выбрал Черное и Азовское море».
Лабас, в отличие от своего товарища по ОСТу Кости Вялова, не считал себя маринистом, но море писал постоянно. Особенно — последние 20 лет жизни. «Я пишу пейзаж на песчаном берегу Финского залива. Вот, кажется, мне удается его взять неаполитанской желтой. Эта краска долго пролежала нетронутой у меня в этюднике, а теперь она заговорила. Но как написать этот неуловимый, голубоватый оттенок? Как он скользит и переливается, отражая то небо, то зелень высоких сосен, так быстро убегающих вдоль берега в тающую синеву. Сегодня солнечный день, но сильный ветер с моря гонит шумящие волны и они, весело подпрыгивая, бегут мне навстречу. Вот они уже у берега широкими плоскими языками облизывают блестящую мозаику из разноцветных ракушек.
Волны шумят. Такой приятный этот шум. То он вдруг усиливается, то кажется приглушенным. Какой контраст тихому, неподвижному, задумчивому, как незабудки, небу. Оно сегодня поразительно чисто, лишь одно забытое облачко висит сбоку у горизонта. Правда, почему-то слева видна луна, но ее сразу не заметишь. Она тонет в голубизне. Плавно пролетела низко над головой чайка. Мне показалось, что она смотрела на меня, тем более что освещенный солнцем, еще не записанный белый холст ослепителен».
В том возрасте, который принято называть пенсионным, Александр Аркадьевич будет писать пейзажи и портреты исключительно «для души». С заказными работами, которые кормили прежде, в начале 1960-х годов будет покончено. Такого понятия, как коллекционеры, не существовало, даже портреты писались без задней мысли продать их своей модели. «Куда девать картины? Музеи полны… Новых нет… Рабочий не может заказать свой портрет или купить пейзаж… Художники-живописцы состоят фактически на пенсии государственных заказов. Молодежь работает по журналам и театрам. Не талмудьте, товарищи-критики, голову новому поколению, не делайте вида нужности и расцвета живописи… Во Вхутемасе на живописном, благодаря неясности, учится триста юношей. Куда они выходят?.. Необходимо для доживающих живописцев открыть Страстной монастырь и честно сказать: „Это пережиток буржуазного строя“. Новые же силы посылать работать на полиграфическом производстве, текстильном, одежды, вещей мелкой индустрии, архитектурном, кинематографическом и др.»[93]. Вот так, без обиняков, еще в 1928 году формулировал Александр Родченко. Сам он с головой ушел в производственничество, в фотографию, рекламу и дизайн, однако в середине 1930-х вернулся к живописи, с которой некогда начинал. Его, как ни странно, обвинили в формализме в фотографии, причем еще в 1931 году, чуть ли не одним из первых, вменив в вину ракурс, наклон линии горизонта и сопоставление крупного переднего и мелкого заднего планов. Кому-то приходилось уходить из живописи в театр и диорамы, а Родченко, наоборот, — из фотографии в живопись. После фотоколлажей к поэмам Маяковского и рекламы Моссельпрома «пионер советского дизайна» вдруг стал писать сцены из цирковой жизни — просто так, для себя («…разве нужны стране социализма чревовещатели, фокусники? Жонглеры? Ковры, фейерверки, планетарии, цветы, калейдоскопы?» — задавался вопросом вчерашний авангардист-радикал). Пастернак как-то заметил: «Мы все живем на два профиля — общественный, радостный, восторженный, и внутренний — трагический». Многие так и жили, хотя до конца не отдавали себе в этом отчета.