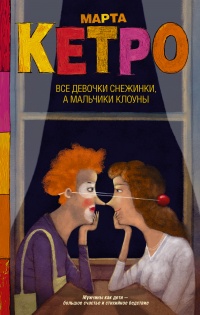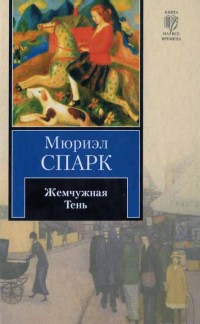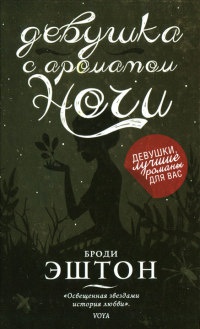«Клуб Мэй Текской существует для финансового благополучия и общественной защиты девиц и дам со скудными средствами, не достигших тридцати лет, которые обязуются жить отдельно от своих семейств, с тем чтобы впоследствии получить должность в Лондоне».
* * *
Как сами они в той или иной степени сознавали, лишь немногие девушки того времени могли быть более восхитительны, более оригинальны, более трогательно прелестны и, между прочим, более необузданны, чем эти девицы со скудными средствами.
— У меня есть что тебе рассказать, — объявила Джейн Райт, обозреватель газеты.
По ту сторону телефонного провода голос Дороти Маркэм, владелицы процветающего модельного агентства, откликнулся:
— Дорогая, куда ты подевалась?
В тоне ее звучал необычайный энтузиазм — по привычке, сохранившейся с тех пор, как она была юной дебютанткой.
— У меня есть что тебе рассказать. Помнишь Николаса Фаррингдона? Помнишь, он приходил в наш старый Мэй-Тек сразу после войны, он тогда был чем-то вроде анархиста и поэта? Высокий такой мужчина с…
— Это он забрался тогда на крышу, чтобы спать там на свежем воздухе с Селиной?
— Ну да, Николас Фаррингдон.
— А-а, ну да, более или менее помню. Он что, объявился?
— Нет. Его замучили.
— Что?.. Мучили?
— Замучили в Гаити. Убили. Помнишь, он стал Братом…
— Но я только что была на Таити. Там все просто замечательно! И все замечательные! Откуда ты об этом узнала?
— Гаити. Абзац в новостях — только что пришли от «Рейтера». Я уверена — это тот самый Николас Фаррингдон, потому что там говорится — миссионер, бывший поэт. Я чуть не умерла. Видишь ли, я ведь его в то время хорошо знала. Думаю, все постараются замять, если захотят опубликовать статью о его мученичестве.
— Как это произошло? Это очень страшно?
— Ох, я не знаю, там только один абзац.
— Ты побольше разузнай по своим личным каналам. Я просто в шоке. И мне так много надо тебе рассказать.
«Административный комитет выражает недоумение в связи с протестом, высказанным членами клуба по поводу обоев, выбранных для гостиной. Комитет считает нужным указать, что плата за проживание не покрывает текущих расходов клуба. Комитет также считает нужным выразить сожаление, что дух данного учреждения, по всей видимости, так сильно ослабел, что такой протест оказался возможен. Комитет отсылает членов клуба к своду правил данного учреждения».
Джоанна Чайлд была дочерью сельского пастора. Девушка отличалась неплохой сообразительностью и сильными, подчас смутными чувствами. Она готовилась стать преподавателем ораторского искусства и посещала занятия в школе драмы, в то же время она имела собственных учеников. К этой профессии Джоанну Чайлд влекли ее прекрасный голос и любовь к поэзии, которую она любила, как (такое вполне можно предположить) кошка любит птичек: поэзия, особенно тот ее вид, что поддается декламации, возбуждала ее, завладевала ею целиком; она бросалась на этот материал, играла с ним, пока он трепетал в ее мозгу и, когда она запоминала его наизусть, она произносила стихи вслух со всепоглощающим наслаждением. По большей части она не отказывала себе в этом наслаждении, когда давала уроки красноречия в клубе, где благодаря этому заслужила весьма высокое о себе мнение. Вибрации декламационного голоса Джоанны, доносившиеся из ее комнаты или из рекреационного зала, где она часто репетировала, как полагали, придавали еще более утонченный стиль и тон клубу, когда сюда наносили визиты молодые люди. Поэтический вкус Джоанны стал поэтическим вкусом всего учреждения. Она испытывала глубокие чувства к определенным пассажам из Библии, не говоря уже о «Молитвеннике для всех», Шекспире, Джерарде Мэнли Хопкинсе и недавно открытом ею Дилане Томасе[47]. Ее совершенно не трогала поэзия Элиота или Одена[48], кроме двух лирических строк последнего:
Любовь моя, челом уснувшим тронь Мою предать способную ладонь…[49]
Джоанна Чайлд была крупная девушка, со светлыми сияющими волосами, голубыми глазами и ярко-розовыми щеками. Читая объявление, подписанное леди Джулией Маркэм, председательницей комитета, она стояла вместе с другими молодыми женщинами перед доской, обтянутой зеленым сукном, и бормотала вполголоса: «Он гневается, гневается снова, ибо он знает — его время истекло»[50].
Немногие знали, что изначально эти слова относились к дьяволу, но реплика вызвала всеобщее веселье. Однако Джоанна на это вовсе не рассчитывала. Ей не было свойственно цитировать что-либо, подходящее к случаю, и в тоне беседы.
Джоанна, которая теперь уже достигла совершеннолетия, отныне станет на выборах голосовать за консерваторов, что в те времена в клубе Мэй Текской ассоциировалось со страстно желаемым образом жизни, о котором ни одна из обитательниц клуба, в силу юного возраста, по собственному опыту ничего не помнила. В принципе все они одобряли то, за что ратовал комитет. Поэтому Джоанну встревожила веселая реакция на ее цитату — дружный смех, означающий понимание, что те дни, когда члены чего бы там ни было не могли выказать протест против обоев для гостиной, давно отошли в прошлое. Невзирая на принципы, все и каждая видели, что объявление просто чертовски смешное. Леди Джулия, должно быть, просто дошла до точки.
«Он гневается, гневается снова, ибо он знает — его время истекло».
Маленькая, темноволосая Джуди Редвуд, работавшая машинисткой-стенографисткой в Министерстве труда, сказала:
— Я так понимаю, что как члены клуба мы имеем полное право высказывать свое мнение об управлении клубом. Мне надо спросить у Джеффри.
Джуди была помолвлена с этим Джеффри. Он пока еще служил в вооруженных силах, но до того, как его призвали, успел получить квалификацию поверенного. Его сестра, Энн Бейбертон, стоявшая вместе с другими перед доской объявлений, откликнулась:
— Вот уж у кого я не стала бы спрашивать, так это у Джеффри.
Энн Бейбертон сказала так, чтобы продемонстрировать, что она знает Джеффри много лучше, чем его знает Джуди; она сказала так, чтобы продемонстрировать любовное презрение к брату; она сказала так, потому что именно это и должна была сказать прилично воспитанная сестра про брата, которым она гордится; и помимо всего этого, в ее словах «Вот уж у кого я не стала бы спрашивать, так это у Джеффри» крылся и элемент раздражения, поскольку она понимала, что нет никакого смысла поднимать вопрос об обоях для гостиной. Энн презрительно затоптала окурок сигареты на полу огромного клубного вестибюля, выстланного розовой и серой викторианской плиткой. На что ей незамедлительно указала худенькая, среднего возраста женщина, одна из старших, если и не совсем из самых первых членов клуба, которая заметила: