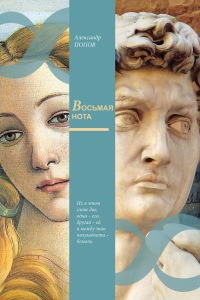Лазареты вчера отправлены назад, к Данцигу. Солома, на которой лежали раненые, реквизирована, чтобы кормить штабных лошадей. От убогого корма у коней сил хватает только на то, чтобы идти шагом или трусить рысцой.
Вечером в городке впереди (город узнается по колокольне и кладбищу, следов продолжительного поселения почти нет) показался русский арьергард. Поселение называется Freiheit, «Свобода», это то же, что по-нашему liberté, но вряд ли как-то связано с нашими идеями. До ночи удается очистить городок от неприятеля. Русские отводят своих бойцов на равнины за городом (если смотреть от нас). Они не зажигают огней. Пленные показали, что это делается в целях маскировки, хотя каждому из нас известно, что они расположились там лагерем.
8 февраля 1807 года, 7 часов утра
Император — точка концентрации. Он спит на хуторе слева от нас. И сон его — тоже выражение концентрации, хотя мы этого и не видим. Часовые и адъютанты оберегают его покой. Стена заботливых усилий окружает спящего императора, а спит ли он на самом деле, мы не знаем. Может быть, он отдыхает, а может, диктует что-нибудь, но нам полагается верить, что он восстанавливает силы сном и тем самым питает свой дух концентратом энергии.
Он властен над своей памятью, над своим языком, телом, сном, над своими планами и даже над своей силой концентрации и над своими бессознательными побуждениями. Самообладание — часть его верховной власти над войсками и командирами. Они доверяют ему и любят его: это значит, они наблюдают его способность концентрации и подражают ему в этом. Таковы альфа и омега этого прекрасного механизма. Для чего он построен? С помощью концентрации этого не выяснить, а беспочвенные размышления императору не подобают. Он сосредоточен на том, чтобы сохранять в целости собранные в кулак силы, приведенные им сюда из Парижа, пока какая-либо цель не отреагирует на них. Цели выдают себя, появляясь в поле зрения. Ведь в мире множество блуждающих целей.
Однако неуютный край, в который шаг за шагом заманивает нас упрямый противник, устроен совершенно иначе. Он состоит из «множества точек и временных моментов, обозначающих „сейчас“» (до самого Урала они неисчислимы, в каждой из этих точек и каждом из обозначающих «сейчас» моментов может умереть человек, могу умереть я или одна из моих лошадей, а может случиться несчастье и с императором). Эти точки и моменты безразличны по отношению друг к другу, являясь «знаками инобытия природы», то есть эта чужая природа (в отличие от природы императора или природы Франции или Италии) ничего не желает, ни о чем не мыслит, кроме самой себя. Я не собираюсь отрицать, что и этот удаленный край наделен душой, однако она не выражает себя в отношении нас, тех, кто вторгся в эти земли и покинет их, как только завоюет их. Мы хотим только одного: чтобы этот поход не повторился. С этой «нерешительностью» соотносится безразличие пространства, разворачивающегося здесь и сейчас в форме рощицы, лесной опушки, едва намеченной дороги, не ведущей туда, куда мы желаем, — именно потому, что мы здесь ничего и не желаем.
Такова структура рассредоточения, прямая противоположность энергетической и временной собранности императора. Множество безразличных точек страны, заполненных безразличными голосами коренных жителей, а также прусскими и русскими солдатами, сосредоточенным войском, стремящимся к родным домам: все это нарушает концентрацию нашего объединителя.
Император появляется из дверей. Он осматривает лошадей. Мюрат и Бертье приближаются к нему, все это на небольшом клочке земли. (При этом, однако, нельзя, допустим, сказать: шестнадцать тысяч точек или семь тысяч «сейчас», поскольку и точка, и момент «сейчас» не образуют исчислимого пространства. Можно лишь указать на их пропорциональное отношение к стуку в висках, к звуку выстрела, к ампутации конечности, к отданному приказу — все это можно сравнить с тем клочком земли, на котором сейчас стоит император.) Завязывается земной разговор: как многообразию душ, приведенных императором в эти места, предстоит вступать в это сумрачное утро в своих «сосудах» или надеждах (корпусах, дивизиях, полках, ротах). Об этом император говорит окружающим.
В семь утра зимой еще ночь. Армия расползается по невидимым нитям. Корпус Даву должен выйти в тыл русской армии у Зерпаллена, места, которое ни один из вестовых, вызывающих передвижение войск на этом пространстве в шестнадцать квадратных километров, еще не видел. Тем временем силы построены за городом, в направлении к востоку. Местность находится позади позиции, которую собирается занять император. Неразличимый на местности план предусматривает, что после полудня корпус Нея с севера ударит в тыл противника и сбросит его с поля боя, «словно рычагом». В этих планах скрывается привязка памяти к прежним, удачным временам, когда подобные маневры были успешны. В утреннем холоде частица решимости возникает уже только потому, что многие наблюдают эту фазу собирания человеческой массы, «умноженной возможности». Что им до пространства, до победы в этом далеком краю? И все же они не желают отказаться от момента сосредоточения воедино. Противник ведет огонь по строю.
Вот император садится на одну из подведенных лошадей, смешанный отряд офицеров и конных гвардейцев, выделенный в качестве его личной охраны, устремляется за ним. Еду и я со своей поклажей.
Назначение моего воздушного шара и моих телескопов
Император распорядился везти снаряжение с собой. Шар должен подняться над местностью и, словно виртуальный холм со ставкой полководца, открывать вид на позиции противника. Однако поскольку император всегда полагал, что может представить себе соответствующего противника, не глядя на него, он никогда не поднимался на шаре и не посылал никого другого с этой целью, да он никогда и не приказывал распаковать шары. Что же касается телескопов, то они должны были быть направлены не на противника, а на небо. Они сохранились еще со времен египетского похода. Они должны обеспечивать связь со звездами, с законами космоса, а также давать ориентировку на местности, если она оказывается невозможной иными методами. Может, удастся увидеть что-либо важное, сказал император.
Сегодня это снаряжение бесполезно. С северо-востока непрерывной чередой несутся снежные тучи. Буря бьет гренадерам в лицо. И шар в такую погоду не поднимется, и наблюдатель с него ничего не увидит. Около одиннадцати часов на некоторое время в снежном вихре наступает обманчивый перерыв.
Роковое решение императора
Император производил чрезвычайно нервозное впечатление. Он отдавал распоряжения, на этот раз довольно резким и громким голосом. Таким я его не видел. Обычно голос его негромок, он говорит отрывисто. Я всегда удивлялся, что офицеры и генералы подхватывают эти словесные обрывки, хотя он на них не смотрит и ни к кому не обращается, и переводят их в быстрые движения или громкие приказы. Словно собачья свора, они готовы схватить на лету «лакомый кусок». Однако в эти утренние часы — около половины одиннадцатого горизонт слегка просветлел — я увидел императора, исходящего потоками красноречия. Случилось что-то ужасное. Вместо того чтобы подождать эффекта атаки на правый фланг русских, император приказал двинуть корпус Ожеро, цвет нашего войска, на ослабленный центр русских. Войска сбились с дороги во вновь разыгравшейся снежной буре, вышли на четверть мили левее, прямо на русские батареи, и понесли тяжелые потери, оказавшись при выходе из снежной пелены в шестидесяти метрах от вражеских орудий. Менее чем за восемь минут полегло шесть тысяч солдат. В то же время русские колонны двинулись с места, не по приказу, а сами собой (мы узнали об этом потом от пленных), потому что хотели пробиться к теплым кухням и печкам городка. Эта махина, черная масса на белой равнине, двинулась в сторону императора.