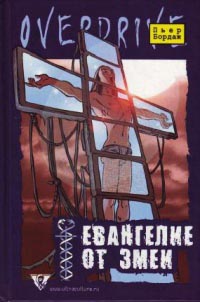площади, под общинным дубом, и слушали его.
У каждого стоял перед глазами тот месяц с лишним, который теперь никак нельзя было прожить. Мужикам виделась Бэркова корчма, где надо было впроголодь, только чтобы убежать от невольных домашних упреков, сидеть все эти дни, бабам — жадные и вечные, как судьба, устья печек, которые каждое утро требовали жертв.
Но все молчали.
Озадаченный этим обстоятельством управляющий (пан повелел, в случае чего, пойти на маленькие уступки) предложил пять копеек в день, смехотворную седьмую часть пуда. И тут Янка Губа, самый старый дед к селе, выступил из толпы.
— Мы не нищие, чтобы нам замазывали глотку семью фунтами в день. Мы не по дворам просим, мы просим свое, издревле установленное.
Глаза его были как у обиженного спокойного ребенка.
— Он обидеть нас надумал... Что ж, пускай подавится нашим хлебом... А за сиротские слезы подохнуть ему без покаяния... А раньше того пускай знает — не будет платить за сгон, как это дедами заведено, — никто не пойдет на сгон. Барщину отработаем, а сгон пускай вырабатывает вдвоем с тобою, управляющий.
Управляющий был человеком неразумным и вспылил:
— Тогда хрена вам вместо хлеба. Жрите землю... Кто еще угрожать будет? Кто?! Холуи безмозглые! Вы ведь видите, какой трудный год. Разве не пан дает вам ссуды?! Разве не он за ваши недоимки перед государством отвечает своими деньгами?!
— За это мы на него и работаем. Но недоимок за нами не велось. Ссуд тоже. А если этой весной и доведется занимать из-за его панской милости, то у кого хочешь будем занимать, только не у него, аспида несытого. Корчмарю образа в залог отдадим, ведь он только что нехристь, а все-таки лучше его, пасти ненасытной.
— Под оружием пойдете! — бросил угрозу управляющий.
И тут выступил из рядов совсем еще молодой, лет двадцати восьми, пивощинский мужик по фамилии Корчак, работящий отец двоих детей. Только что вернулся со скирд (больше всех старался человек, потому что семья у отца была поделена и добытчиков, кроме него, не было) и поэтому был с вилами. Всадил их в землю и спокойно оперся на черенок.
— Не угрожай, управляющий. Бог не простит за угрозы невинному.
Стоял перед управляющим белокурый, как лен, смотрел черными угрюмыми глазами.
— А на сгон не пойдем. Если под оружием поведут, то такую и работу получит пан Кастусь. Пускай жолнеры штыками снопы носят.
— Зачинщики! — крикнул управляющий. — Ясно.
И достал из кармана книжку и карандаш.
— Не дадим писать! Не дадим! — заволновалась толпа. — Черт его знает, что он там напишет... А потом печать ляпнут — и пропадай душа.
Возмущенные люди группировались вокруг старого Губы. Гневаться они не очень-то умели, но страх и обида были таковы, что хоть ты плачь от них.
Первый не выдержал Василь Горлач, человек в бедной, но чистой, старательно заплатанной свитке.
— Да что ж это такое?! За что?! За нашу обиду — да еще и писать.
— Нехорошо делаешь, управляющий, — вступился Корчак. — Гляди, чтобы не отрыгнулось.
— Так вот как? — пыхнул управляющий. — Ладно. Еще и угрозы. Гля-адите, мужики. Все это вам припомнят. И от сгона отказ, и оскорбление пану, и... то, что иконы святые заложить иудеям собрались... Выводок гадючий! А тебе, Губа, как зачинщику не миновать Сибири.
Губа издевательски смотрел на него.
— Чего мне бояться? Мне всего жизни с гулькин нос. Ну и Сибирь. Пускай. Не все ли равно, откуда к праотцу Абраму на пиво выправляться...
— Он еще и богохульствует, хрыч старый... Нужен ты Абраму, труха вонючая, — огрызнулся управляющий.
Со старым Губой никто так не разговаривал. Абрам Абрамом, а почитание необходимо старику даже тогда, когда он закончил земные дела. И потому обиженный Губа оскоромился.
Управляющий увидел едва не под самым своим носом потрескавшуюся темную дулю, какую-то очень длинную и потому особенно издевательскую. И тогда он размахнулся и стегнул старика по пыльной свитке, горбатой на спине.
И тут случилось то, чего никто не ожидал от всегда покладистого, важно-молчаливого Корчака. По-видимому, и он сам не ожидал, так как лицо его осталось рассудительным и почти спокойным. А руки в это время дернули из земли вилы и швырнули их в управляющего.
Вилы просвистели в воздухе и, дрожа, впились в землю между расставленных ног управляющего. Он побледнел.
А на него уже надвигалась толпа.
— Гони отсюда!
— Порожняк отменил, погань!
— Тре-е-етий день!!!
— Плати за сгон!
— Зеленя конями топчет, голова садовая!
Крик опьянил людей, особенно когда они увидели, что управляющий вскинулся в седло и припустил вдоль деревенской улицы.
Дети воробьиной стайкой бросились за всадником.
— Зас...й пан! Зас...й
Управляющий постегивал коня в направлении к Кроеровщине, такой согнутый, будто ощущал спиной неминуемую смерть. За околицей управляющий бросился в сторону и поскакал прямо по жнивью, без дороги.
А возбуждение все нарастало в душах, и над толпой стоял смех, горделивые выкрики, свист. Несытное было лето, голодная будет весна — черт с нею! Черт с нею, лишь бы на минуту пришли в душу успокоение и достоинство.
— Как это ты отважился, Корчак?! А если бы попал?
— Если бы захотел, так попал бы, — обескуражено и слегка гордо посмеивался Корчак. — Что я, турок, чтобы в живого христианина целиться?
— Да какой он христианин?! Падаль он! Как же... Сгон даром делали. А теперь голод!
И это снова вернуло мысли на обиду.
— Сле-озочки, — запричитала какая-то баба. — Что ж им понадобилось, этим ненасытным?
— У старца посох отняли!
— У детей голодных кусок изо рта вырвали!
Запричитали и другие бабы. И с нарастанием их причитания какой-то тусклый, лютый огонек загорелся в глазах мужиков.
Нарастала нестерпимо болезненная, едва ли не до слез, обида. Она требовала безотлагательного выхода. И потому толпа радостно вспыхнула, когда кто-то бросил:
— Сжечь скирды Кроера... Пускай знает.
Толпа взревела. Понравилось всем.
— Не нам, так и не ему!
— Жги!
С самодельными факелами двинулись уничтожать скирды. Молодежь отделилась и пошла жечь суслоны. День начал захлебываться в дыму... И удивительно — никто не взял ни снопа. Видимо, потому, что это был не грабеж, а месть.
— Пускай знает!
— Носом натыкать!..
...Когда пожгли хлеба, люди вернулись в деревню и начали ждать, что из этого будет.
...Ждать пришлось недолго. Солнце еще стояло довольно высоко, когда парень