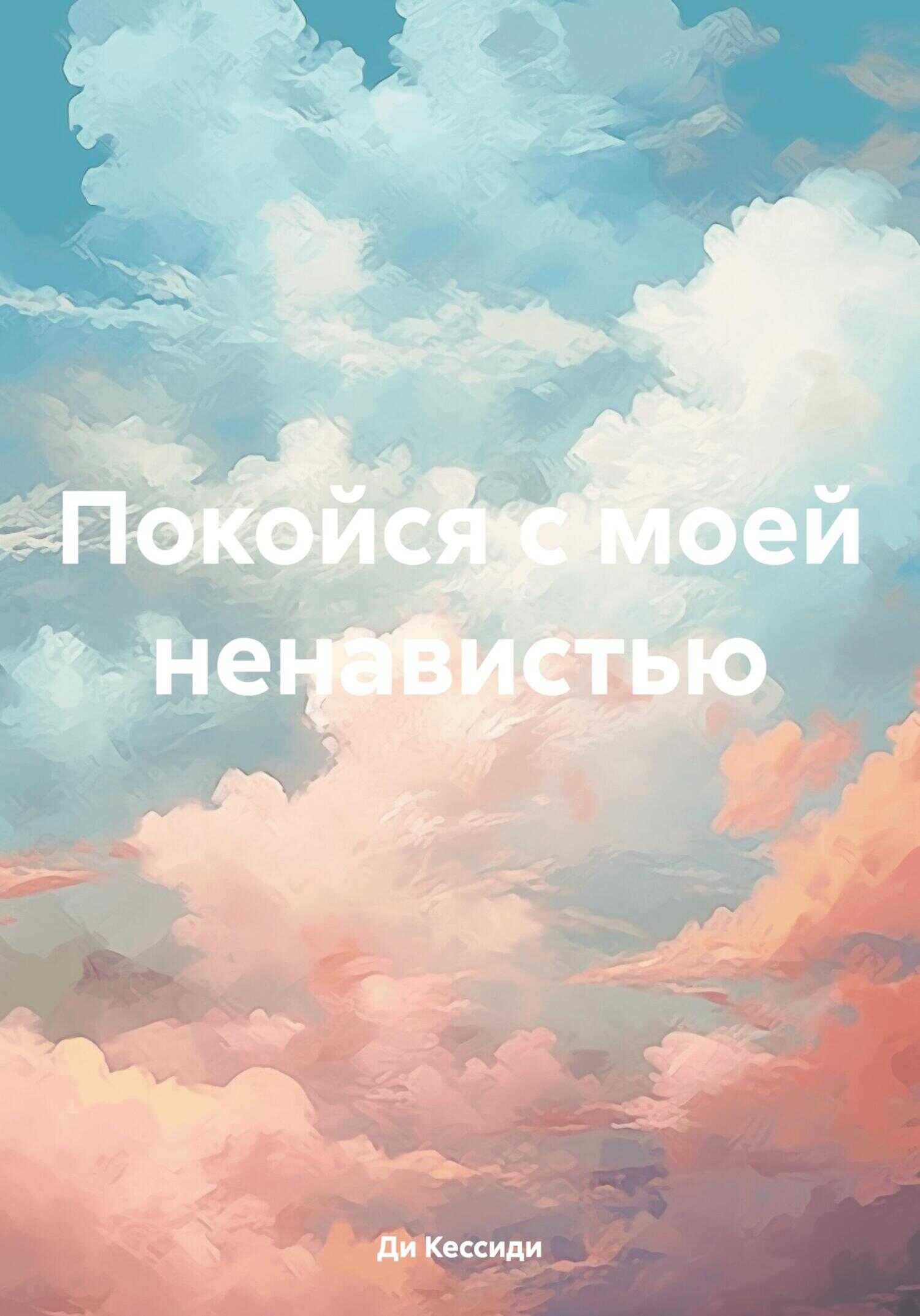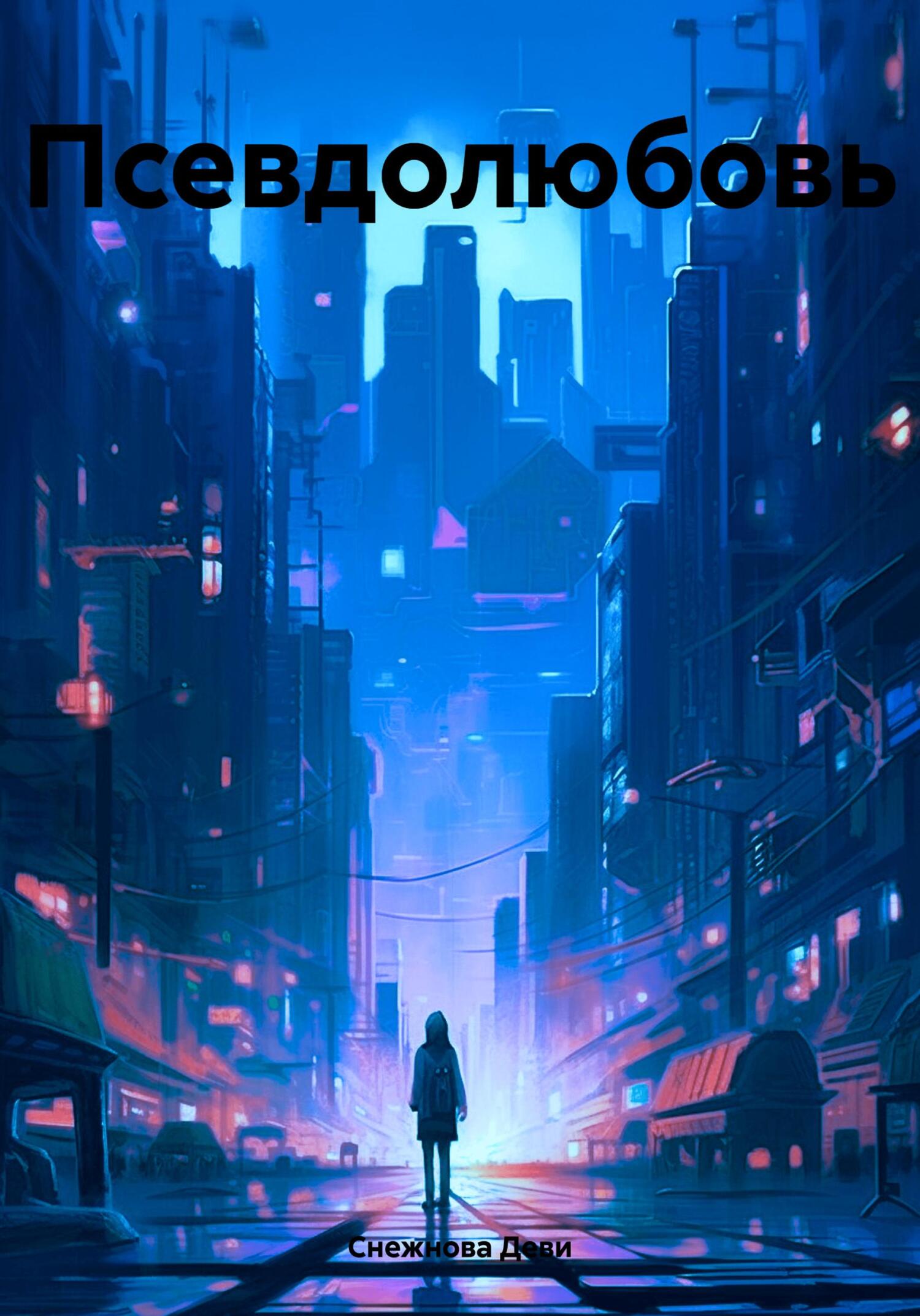не понимаю, как это называть.
Спасение. Воскрешение. Возрождение. Снятие проклятия. Почему все эти хорошие слова жгут меня плевками яда? Я вдруг понимаю одно, и очень остро: я отчаянно хочу коснуться его. Чего угодно, хоть волос, хоть плеча, хоть руки. Он сказал сейчас правильно. Я тоже, в той или иной мере, привыкаю. К тому, что исправила хоть что-то. К тому, что он стал собой и я могу его видеть. Если отбросить все прочее, все несказанное, все угнетающее меня и бесящее Скорфуса, это ведь главное. Для меня нет ничего ценнее жизни моего Эвера. Пусть я больше не могу звать его своим.
Когда он только появился рядом, я знала: да, ему неприятны чужие прикосновения. Даже не так, он их боится. Мне было восемь, он старался не пугать меня, но постепенно, не без помощи отца, я разобралась с причиной. У нас с Эвером не возникало проблем, я сама прикосновения не жаловала. Обнять папу, взять за руку брата – да, но кроме этого я предпочитала трогать цветы, а не людей, и чтобы не трогали меня. К девяти годам я отвадила всех служанок, пытавшихся помочь мне одеться, причесаться и тем более помыться. К десяти сама забиралась на лошадь и вылезала из кареты, лишь бы никому не давать руку. К двенадцати дала четко понять самым настойчивым юным нобилям: эта принцесса не танцует. Поэтому я поняла бы Эвера, даже если бы ничего не знала. И поэтому сразу заметила, когда что-то начало меняться.
Ему было настолько жаль меня в Кошмарные ночи, что он сам клал руку мне на лоб – и не отдергивал, когда я хваталась за нее. Два или три раза он обнимал меня утром, видя, что я совсем серая от слабости. Он ставил меня в правильную боевую стойку, показывал, как держать меч и хлыст, работа с которым давалась мне особенно трудно. Однажды я сама в каком-то порыве обняла его, тут же отпрянула, попросила прощения – но он сказал не извиняться. После этого я и позволила себе иногда, видя, что ему грустно или он устал, брать его за руку и переплетать наши пальцы.
Я тянусь к безвольно лежащей руке и сейчас, но он двигает ее в сторону, даже не открыв глаз. Долгая жизнь в Подземье, видимо, обострила его чувства. Сжимаю кулак, зубы тоже стискиваются. Проклятый Скорфус, не брось он меня, я не вела бы себя так глупо, мне нужно было бы держать лицо. Я выдыхаю и откидываюсь в кресле, стараюсь принять как можно более расслабленный вид. Настоящий разговор только начинается, нужно собраться с духом и…
– Значит, Лин мертв, – произносит Эвер странным тоном. Его глаза медленно открываются, они все еще стеклянно-отчужденные. – А срок правления твоего отца оканчивается. Правильно?
– Правильно. – Киваю и жду продолжения: не понимаю, для чего очевидное уточнение.
Эвер пару секунд молчит, смотря в пустоту. Пальцы его легонько сжимаются на одеяле, потом расслабляются, а глаза, чуть прояснившись, снова встречаются с моими.
– Понятно, – едва различимо выдыхает он, а спустя секунду прибавляет громче и чеканнее: – Нет, Орфо. Нет. Не надейся, я вряд ли смог бы, это… выше моих сил. Да здравствует королева.
С этими словами он снова двигает рукой, и из нее выпадают два окровавленных камешка, совсем крошечных. Видимо, те, что оказались в ладони, когда он кашлял.
Между нами в который раз повисает тишина. Бездумно глядя на камешки, алеющие поверх белого покрывала, я различаю даже плеск моря за окном. То ли оно разволновалось, то ли тишина правда глубже и тяжелее прежней. Она и должна такой быть, ведь меня швырнули на холодное дно, где, впрочем, мне самое место.
– Нет, – повторяю я как околдованная. Глаз мы друг от друга не отводим. – Эвер…
– Теперь-то я понимаю, – перебивает он, еще сильнее побледнев – горечь во плоти, близящаяся буря, – почему ты пришла сейчас. И почему так стараешься…
– Неправда! – почти взвизгиваю я, сама не поняв, куда так быстро испарились мои ровные интонации. Он обрывает снова, просто повторив:
– У тебя появилась веская причина бояться за себя. Верно?
Его глаза болезненно загораются, он пытается сесть, но снова начинает кашлять и выхаркивает еще несколько камней. Я смотрю на это с ужасом; единственное, что не дает мне вопреки всему кинуться за медиком, – предупреждение Скорфуса: «Камни это нормально, пройдет, а вот если из него полезут жуки…» Эвер кашляет долго, потом откидывает голову, обращая мокрые измученные глаза к потолку. Он больше не хочет на меня смотреть. А я хочу залезть под кровать, и как можно дальше отсюда.
– Ты ошибаешься, – только и шепчу я. Зная, впрочем, что звучит лживо.
Когда люди, облеченные властью, стали ею злоупотреблять – вскоре после того как время племенных вождей сменилось временем королей и консулов, – боги поняли: с этим нужно что-то делать. Правила они придумывали долго, изощренно, с азартом. Сначала ввели равенство престолонаследования – для сыновей и дочерей. Затем, убедившись, что женщины ошибаются и поддаются соблазнам не реже мужчин, боги ввели равновластие и равнокровие – отныне брак для членов правящей династии становился обязательным, а супруги получали с ними равную долю влияния. Даже если были из бедного рода или чужих земель. Это увеличивало груз ответственности, зато когда один супруг поддавался дурным идеям, второй мог сдержать его, просто не дав свою половину армии и казны. Порой это, конечно, вело к тому, что супруги просто убивали друг друга в борьбе или, наоборот, объединялись для коварных планов, но чаще помогало неплохо. Когда недостаточно оказалось и этого, бог-судья Арфемис ввел правило двадцати лет, по истечении которых всякий правитель во избежание мучительной смерти должен отдавать власть. Достаточный срок, чтобы вырастить ребенка, достаточный, чтобы подготовить преемника. А незадолго до этого, наверное в особенно дурном настроении, Арфемис придумал кое-что еще.
Решил, что ни один принц или принцесса не смогут взойти на престол, если отягощены скверными замыслами или тяжелым грехом.
Арфемис использовал именно это слово – грех. Мы знали его и раньше, но оно оставалось довольно расплывчатым. Когда родители воспитывали детей, они называли грехами самые разные вещи – например, закинутые на стол ноги или выброшенный хлеб. Если второе действительно нарушает одно из правил и обрекает семью на пару месяцев голода, то первое безобидно, просто невежливо. По итогу да, мало кто в мире Тысячи Правил может четко сказать, что такое грех. Но для принцев и принцесс Арфемис это понятие прояснил.
Предательство. Изнасилование. Убийство. Совершивший что-либо из этого престолонаследник может на свой