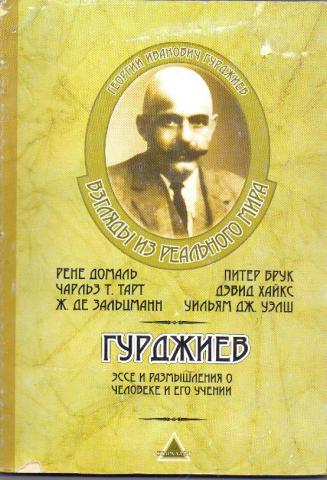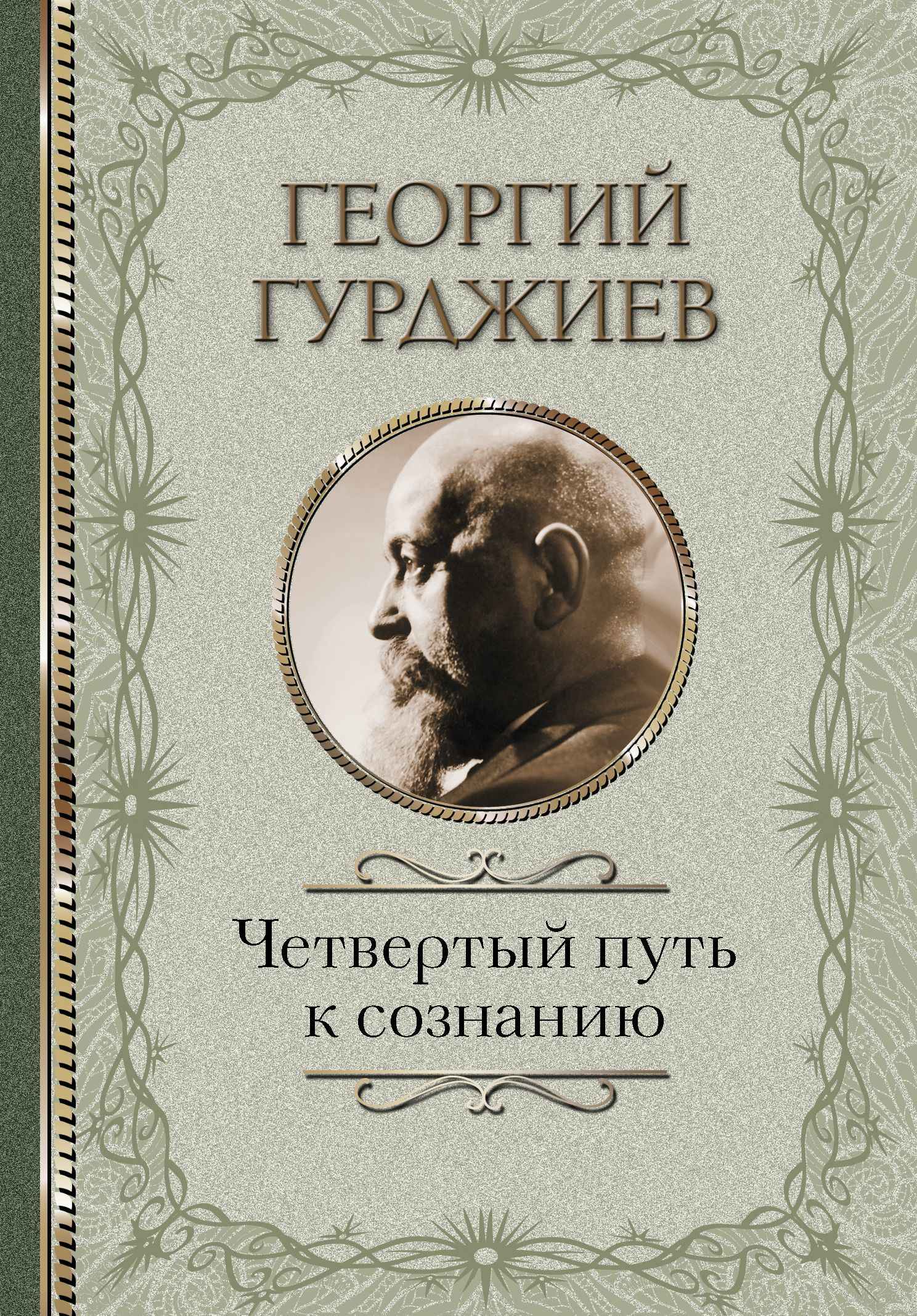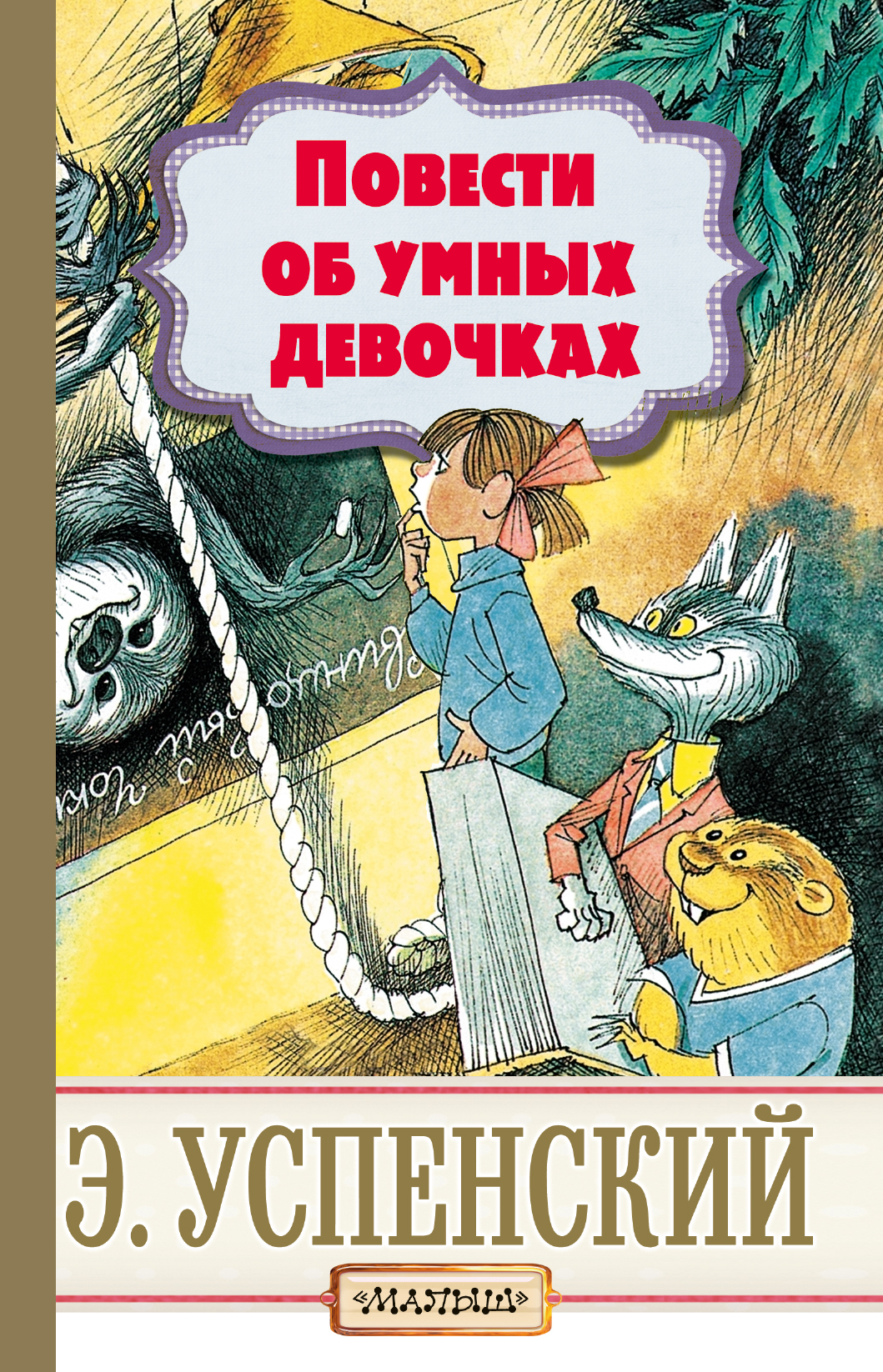Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 118
для Успенского – ведущая тема Нового Завета – делает идею всеобщего спасения, равно как и идеи социального реформаторства, весьма далекой от задач подлинного христианства и является “упрощенным изложением”[363] Четырех Евангелий, “основанных на большом знании и глубоком понимании человеческой души”[364].
В отличие от Безант, источниками которой были как Новый Завет, так и писания христианских теологов и мистиков (таких как Климент Александрийский, Ориген, Ириней Лионский, Псевдо-Дионисий, Бернард Клевросский, Фома Аквинский, Джон Тейлор, Мейстер Экхарт и т. п.), Успенский концентрировался исключительно на тексте Нового Завета, считая его аутентичным выражением эзотерического христианства. Успенский коснулся вопроса о скрытой стороне христианства, когда стал расшифровывать эзотерическое значение таких понятий и выражений, как: “Царствие Небесное”, “нищие духом”, “жизнь” и “смерть”, “богатство” и “бедность”, “пожинание плодов”, “новое рождение” и “Воскресение”, “слепота”, “бдительность”, “воздаяние”, “ближний”, “отпущение грехов”, “богохульство против Святого Духа” и т. п. В понимании скрытого значения этих слов содержалось для Успенского утверждение эзотерического значения текстов Нового Завета, “написанных людьми, которым известно гораздо больше того, что они пишут”[365].
Концентрируясь на Новом Завете, и особенно на Четырех Евангелиях, Успенский считал, что в них присутствует полное выражение эзотерического учения Христа. Вместе с Безант Успенский полагал, что Новый Завет – книга, которая не может быть доступна непосвященному. “Она написана для тех, кто уже владеет определенной степенью познания, кто уже обладает ключом”[366]. Он сравнивал книгу Нового Завета с книгой по математике, наполненной формулами, специальной терминологией, явными и неявными ссылками и намеками на теории, известные только специалистам.
В то же самое время Успенский утверждал, что понимание Нового Завета часто сводится либо к сентиментально-нравоучительной его интерпретации, либо к некоторому эмоциональному воздействию, различному в случаях с разными людьми и даже в случае с одним человеком в различные периоды его жизни.
Он писал, что, когда говоришь о Новом Завете, речь идет о другом уровне знания и опыта, о знании экстатическом, а не сентиментально-назидательном. Отмечая в Евангелии от Иоанна “эмоциональное возбуждение на уровне экстаза”[367], Успенский разъяснял, что Новый Завет – это результат неизвестного нам опыта экстатического знания, выражение этого знания и опыта иного порядка. Экстатическое знание этого рода было известно Плотину, писавшему о нем как о самом высоком знании.
Успенский также был занят историческими и мифическими аспектами христианства, и отсюда его интерес как к историческим, так и к мифологическим разработкам в работах Ренана и Фрезера. Критикуя обе эти работы как чисто “интеллектуальные” и “легендарные” интерпретации Нового Завета, Успенский в главной части своей работы обращается прежде всего к основным понятиям христианства.
Предпринимая попытку интерпретации Нового Завета, Успенский отличал свой подход от существующих способов его толкования, в особенности от интерпретации тех, кто представлял Новый Завет как интеллектуальное послание, которое должно быть изучено с научной беспристрастностью. Успенский не соглашался с Ренаном, автором “Жизни Иисуса” (1863), который писал: “Наука сама по себе очищена, ибо у нее нет ничего общего с практикой: она не затрагивает людей… Ее обязанность доказывать, а не убеждать или обращать…[368]”. Он находил Ренана “поразительно непоследовательным, что вообще характерно для всей ‘позитивистской’ мысли XIX столетия”[369]. Ренан, по мнению Успенского, “представлял Христа как очень наивного человека, который много чувствовал, но мало думал и мало знал”[370]. Успенский видел губительную альтернативу европейской мысли, заключающуюся в том, что она могла постулировать только две крайности: либо Христос – Бог, либо Христос – наивный человек.
Успенский был восхищен точностью психологических нюансов, содержащихся в притчах Иисуса, свидетельствующих о его глубокой причастности как к восточной, так и к западной традициям. Успенский представлял Иисуса как великого посвященного и как духовного учителя человечества.
Успенский считал, что пренебрежение глубинным значением Нового Завета привело к различным искаженным переводам, заострив внимание на смысловых аберрациях, заслоняющих от нас первоначальную концепцию. Занявшись текстологическим анализом, он привел несколько примеров текстов, которые были сведены до уровня понимания переводчика. Успенский отмечал, что идея зла в молитве Господу была неуместно персонифицирована бесчисленными переводчиками. Слова “избави нас от зла” соответствуют в английском и немецком переводах греческим и латинским текстам, в то время как в церковнославянском и русском вариантах они переведены как “избави нас от лукавого”. Он обнаружил также пример искаженного перевода текста в Евангелии от Матфея 4:10, в сцене описания искушения Христа в пустыне, где Христос сказал дьяволу, согласно греческому тексту “Иди позади меня”, или “Иди за мной”. Но в русском, английском, французском и итальянском текстах эта фраза переводится как “Изыди, Сатана”.
В качестве другого примера искажения Евангельского текста Успенский цитирует хорошо известные слова о хлебе насущном: “дай нам в каждый день наш хлеб насущный”. Успенский настаивал на том, что определение хлеба как “насущного”, “quotidien”, “taglich” не существует в греческом и латинских текстах. Ссылаясь на Оригена, Успенский отмечал, что греческого слова ἐpioysiow, переведенного латинским словом supersubstantialis, не существовало в греческом языке и оно было специально изобретено для перевода соответствующего арамейского термина.
Все эти искажения, согласно Успенскому, возникли потому, что переводчик не мог понять ставшего для него абстрактным значения того или иного текста. Он объяснял психологический механизм этих искажений: в каждом случае, где замечено искажение текста, можно увидеть, что переводчик или переписчик не понял текста; что-то было слишком сложно, слишком туманно. Поэтому, он пытался его слегка поправить, добавить небольшое слово, и таким путем сделать данный текст ясным и логически осмысленным на уровне собственного понимания.
Помимо буквального текстового искажения смысла при переводе Успенский отмечал другой вид искажения глубинной истины Нового Завета в мифопоэтических элементах и наслоениях или инкорпорируемых в жизнь Иисуса Христа фактах из жизни других мессий и пророков. Здесь он выступил как чуткий компаративист, сравнивая темы и мотивы одной традиции, нашедшие выражение в другой. В числе таких он называл темы “избиения младенцев” и “бегства в Египет”, заимствованные из жизни Моисея, а в Благовещении он прочитывал эпизод из махаянистской трактовки жизни Будды: белый слон, сошедший с небес и возвестивший королеве Майя о грядущем рождении принца Гаутамы. История старца Симеона, ожидавшего младенца Иисуса в храме и заявившего, что теперь он может умирать, так как увидел новорожденного Спасителя мира, напоминает Успенскому историю о старом отшельнике Азите, который принял в свои руки младенца Будду и опознал в нем 32 признака Будды.
Успенский исследует другую легенду, а именно легенду о непорочном зачатии. Он отмечает античное происхождение этой идеи и приходит к выводу, что “она несомненно взята из греческой мифологии”[371]. Успенский трактует идею богосыновства и божественности Христа как метафору, отражающую особый характер взаимоотношений между
Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 118