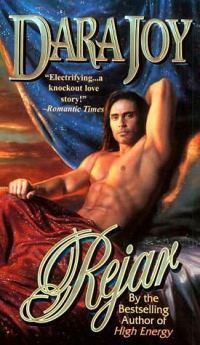— Женщина? — Генрих покачал головой. — Это ещё хуже. Ты и понятия не имеешь, что он вытворяет с женщинами. Он известный антисемит, так что евреек он сам не трогает — брезгует, но вот с остальными не прочь поразвлечься, прежде чем отправить их на эшафот. А если девушка всё-таки еврейка, он бросает её как кость своим приятелям-эсэсовцам, и они…
— Генрих, я не хочу об этом слышать! — прервала я его, прежде чем он сказал что-то ещё более омерзительное. И всё же, мне до сих пор было трудно поверить, что группенфюрер Кальтенбруннер был способен на что-то подобное. В конце концов, из всего гестапо он был единственным, кто обращался со мной как джентльмен, пусть и непонятно почему.
— Прости. Не стоило мне этого говорить. Ты, должно быть, до сих пор ужасно напугана.
Я отпила ещё немного янтарной жидкости, которая обжигала мне грудь, но хотя бы успокаивала нервы. Сейчас я уже ничего не чувствовала, просто усталость и пустоту.
— Это всё моя вина, Генрих. Я чуть себя и всю мою семью не погубила из-за такой непростительной глупости. Что я только думала? Сейчас не время гордиться своими корнями. Это далеко не шутки, как я раньше ошибочно полагала, это всё очень, очень серьёзно. Я и твою судьбу под угрозу поставила. Что бы они с тобой сделали?
Генрих безразлично пожал плечами.
— Ничего, скорее всего. Если бы я им сказал, что ничего о тебе не знал.
— Жалеешь, что женился на мне?
— Ну конечно же, нет. Я люблю тебя.
— И я тебя, Генрих. Прости, что была такой наивной дурой. Обещаю, этого больше не повторится. Ты был прав, прав абсолютно во всём, когда ты пытался мне это втолковать там, на чердаке. Пожалуйста, избавься от всех тех коробок, вместе с моей цепочкой. Не хочу никакого напоминания о том, кто я такая.
— Не говори так, — тихо отозвался он после какого-то времени.
— Нет, всё кончено. Сегодня я впервые осознала, насколько хрупко моё положение. Не знаю уж, почему доктор Кальтенбруннер решил встать на мою сторону, но если я снова оступлюсь, второго такого шанса мне не выпадет. Так что я стану самой образцовой женой офицера, на парады начну с тобой ходить, свастику на руку надену, если потребуется, и друзей всех твоих буду приветствовать поднятием правой руки. Не бойся, не будет больше никаких скандалов и никакой ущемлённой национальной гордости с моей стороны. Я сдаюсь. Вы, нацисты, победили.
Я видела, как он безотрывно смотрел на огонь, кусая губы, будто решая что-то для себя. Наконец он взял бокал из моих рук, залпом выпил содержимое и твёрдо заявил:
— Никакой я не нацист.
Я снова подняла на него глаза, но он так и продолжал смотреть прямо перед собой, хмурясь.
— Как же так? Сколько лет ты уже состоишь в партии? Десять? Ничего страшного, я на тебя за это не сержусь…
Он снова покачал головой с упрямым выражением на лице.
— Я не нацист, — повторил он. — Это всё показное, как и моя должность в СД. Я презираю их всех и всё то, что они делают, и скорее умру, но не позволю своей жене всю жизнь чувствовать себя загнанной в угол жертвой.
Генрих повернулся ко мне; почему-то он казался рассерженным.
— Никогда не смей стыдиться того, кем ты являешься, Аннализа. И не смей дать им так легко тебя победить.
— Я не понимаю, что ты такое говоришь. Что ты имеешь в виду, что это всё показное?
— То и имею. Я вот уже почти четыре года работаю на американскую секретную службу. Я — двойной агент.
Какое-то время я смотрела на него с открытым ртом, стараясь переварить услышанное. Я попыталась сформировать какие-то вопросы в уме, но так и не смогла ничего сказать вслух. Генрих в конце концов заговорил сам.
— Когда я впервые вступил в партию, всё было совсем иначе. Они казались единственными, кто обладал достаточной смелостью и настойчивостью, кто мог помочь стране восстать из руин после той страшной войны. У людей ничего не было: ни денег, ни еды, ни надежды. И тут появляется Адольф Гитлер и обещает поднять великую германскую нацию с колен. Он был единственным, кто не боялся плыть против течения, кто в открытую говорил, что демократический режим ничего ровным счётом для народа не делает, и был прав. Но он не просто бросался красивыми словами, он предлагал решения, планы, которые в то время работали. Он пообещал людям еду и работу, но что более важно, он постоянно напоминал нации о её гордости, о её происхождении и предназначении, о том, что она была главенствующей надо всеми другими. Ты должна понимать, после долгих лет, в течение которых нас постоянно мешали с грязью, и солдатам, и обычным людям приятно было слышать, что они принадлежат к старейшей, арийской расе, которой суждено править миром. Сама идея Третьего рейха стала мечтой, ради которой они готовы были сражаться и погибнуть. И я был одним из них.
Я поймала себя на том, что задерживала дыхание, слушая рассказ мужа. Он говорил тихо, будто сам с собой; я догадалась, что он впервые кому бы то ни было это рассказывал и, боясь прервать его, сидела абсолютно неподвижно.
— А потом был Нюрнберг. К тому времени я уже поклялся в верности моему фюреру и верил ему безоговорочно. Я чуть ли не идеализировал его, да как и все мы тогда, когда стояли перед ним на параде плечом к плечу. Мы были лучшими из лучших, говорил он нам. Будущие правители мира. Я тогда ещё не знал, к чему он всё это вёл. А потом он объявил Нюрнбергские расовые законы.
Он посмотрел на бокал в своей руке.
— Мы должны были зачистить нацию изнутри, это был новый курс партии в тридцать пятом. Сначала мы создадим чистейшее арийское общество, а затем весь мир заставим пасть перед нами на колени. Впервые в жизни я поставил под сомнение слова моего фюрера. Я думал, что мы только хотели разорвать цепи, наложенные на нас англичанами и французами, а не выгнать половину наших соотечественников из страны. Да, они были евреями, но какое это имело значение, если каждый из них любил Германию так же сильно, как и мы, арийцы? Они жили здесь на протяжении нескольких поколений, они говорили на одном с нами языке, они даже сражались в войну вместе с нами! А мы должны были от них избавиться просто потому, что фюрер не хотел, чтобы они «грязнили» нашу чистую арийскую кровь? Мне так, например, не казалось.
Он сидел молча в течение минуты, глядя на огонь. Я невольно задумалась, о чем он размышлял; вспоминал ли того старого, полного надежд Генриха, который ещё не видел зла, скрытого за благородными целями своего фюрера. Я осторожно положила руку поверх его, приглашая его продолжить свой рассказ.
— После тридцать пятого всё изменилось. Он уже в открытую говорил о свободной от евреев Германии и о том, как мы должны были к этому прийти. Сразу же начались гонения, сегрегация, первые депортации… расстрелы. И мы, СС, должны были возглавить новый курс.
Генрих встал и пошёл к бару, чтобы налить себе ещё коньяку. Должно быть, не легко ему было всё это вспоминать без алкоголя.
— А знаешь, как я получил своё первое большое повышение? Пришёл приказ о ликвидации нежелательных эмигрантов на немецкой границе. Видишь ли, как вышло: фюрер их выслал, а польское правительство отказало им во въезде, и так они и оказались меж двух границ, в безвыходном положении. Они попросили местных фермеров дать им немного еды или хотя бы воды для детей, но фермеры испугались их наплыва и начали жаловаться местной администрации о всё большем и большем количестве прибывающих евреев. Они боялись, что те начнут воровать их урожай.