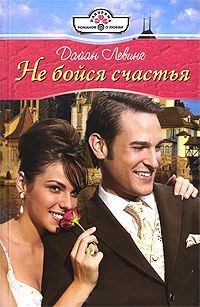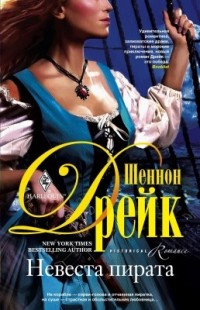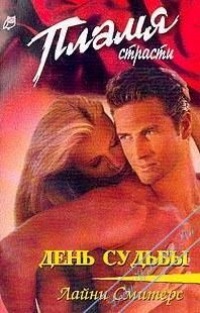Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 61
И вот теперь, где-то около двух часов ночи, мы лежали в постели, смотря друг на друга в тусклом свете одной лампы; я обнаженный, она в хлопковой ночной сорочке, наши руки, пальцы соприкасались, но нейтрально, ничего не обещая. Вопросы громоздились вокруг нас, и какое-то время ни один из нас не решался заговорить. Достаточно и того, что мы могли не отводить взгляда.
Я упоминал, что у нас все еще получалось обсуждать ежедневные дела, но один из аспектов жизни растворился в монотонности дней, и мы не выносили даже мыслей о нем. Многие замечают, как быстро удивительное становится нормой. Я думаю об этом каждый раз, оказавшись ночью на трассе или в самолете, взлетающем к солнцу сквозь пелену облаков.
Мы чрезвычайно легко ко всему приспосабливаемся. Предсказуемое становится, по определению, фоном, не раздробляя внимания, оставляя его полностью готовым к схватке со случайным и неожиданным.
Перри посылал по три-четыре письма в неделю, обычно длинных и пылких и все более и более сосредоточенных на настоящем времени. Часто он избирал темой сам процесс написания письма или комнату, в которой находился, смену времени суток и погоды, перемены в своем настроении, а также тот факт, что это письмо помогло ему ощутить мое присутствие рядом. Последние строчки затянуто выражали печаль от расставания. Религиозные ссылки могли бы показаться чистыми формулами, не будь они такими страстными: его любовь была любовью Господа, такой же терпеливой и всеобъемлющей, и Бог хотел привести меня к себе через Перри. Обычно присутствовали и обвинения, иногда проходящие нитью через все письмо, иногда сконцентрированные в одном абзаце, полном боли: я инициировал нашу любовь и, следовательно, должен признать мою ответственность перед ним. Я играю с ним, направляю его, рассылаю сообщения и подбадриваю, а затем отворачиваюсь от него. Я дразню его, как кокетка, я мастер устраивать медленные пытки, мой дар – никогда не признаваться в содеянном. Вроде бы я теперь не посылал сообщений через кусты и занавески. Нынче я обращался к нему в снах. В сиянии я являлся перед ним, как библейский пророк, и уверял его в любви, предрекая грядущее счастье.
Я научился быстро ухватывать суть этих писем. Задерживаясь лишь на обвинениях и фрустрации, я старательно искал новые угрозы, вроде той, которую услышал у входа в дом. Со злобой было все в порядке. Чернота копилась в нем, но он был слишком хитер, чтобы ее выплеснуть. Но она должна была проявиться, ведь он писал, что я источник всей его боли, строил догадки, что я, возможно, никогда не перееду к нему, намекал, что все может «закончиться такой печалью и слезами, какие нам и не снились, Джо». Мне было этого мало. Я страстно желал большего. Прошу, Джед, вложи оружие в мою руку. Одна маленькая угроза – и я смогу обратиться в полицию, но он отвергал меня, дразнил и отступал, словом, делал все, что приписывал мне. Я хотел, чтобы он повторил свою угрозу, я нуждался в определенности, и, пока он не принимал этот вызов, у меня не исчезали подозрения, что рано или поздно он причинит мне вред. В этом же убеждали и мои исследования. В одной статье говорилось, что больше половины мужчин с синдромом де Клерамбо пытались осуществить насилие в отношении субъектов своей одержимости.
Такой же рутиной, как получение писем, стало присутствие Перри возле дома. Он приходил почти каждый день и занимал позицию на другой стороне улицы. Казалось, он сумел найти равновесие между законами времени и собственными нуждами. Не увидев меня в течение часа, он уходил. Если я выходил из дома, он какое-то время шел за мной, всегда оставаясь на противоположной стороне улицы, а потом сворачивал в проулок и уходил, не оглядываясь. Этих встреч ему хватало для подпитки своей любви, и, насколько я понимаю, он сразу отправлялся в Хэмпстед, чтобы засесть за новое письмо. Одно из них начиналось: «Я разгадал смысл твоего взгляда, Джо, но думаю, ты ошибаешься...» Он ни разу не озвучил своего решения никогда не заговаривать со мной, и в какой-то момент я почувствовал себя обманутым, потому что я надеялся, что, раз уж он не собирается угрожать мне в письмах, он будет так любезен и позволит мне записать его слова на пленку. Я носил в кармане маленький диктофон, закрепив микрофон под лацканом. Однажды на глазах у Перри я склонился над кустом и провел по нему руками, оставляя послание, а потом обернулся к Перри и посмотрел на него. Но он не подошел и даже не упомянул об этом событии в следующем письме. Форма, которую принимала его любовь, не изменялась под воздействием внешних влияний, даже если они исходили от меня. Его мир определялся изнутри, приводился в движение личной необходимостью и таким образом мог оставаться неприкосновенным. Ничто не могло убедить его в неправоте, ничего не требовалось для доказательства его правоты. Если бы я написал ему страстное признание в любви, это бы ничего не изменило. Он заперся в клетке собственного вымысла, где дразнил себя многозначительностями, наблюдал несуществующие драмы надежд и разочарований, внимательно изучал внешний мир, с его случайными раскладами, хаотическим шумом и красками, в поисках соответствия своему нынешнему эмоциональному состоянию – и всегда находил удовлетворение. Он осветил мир чувствами, и мир подтверждал каждый поворот его эмоций. Если наступало отчаяние, то лишь потому, что он прочел нечто мрачное в атмосфере, ну или из-за вариации в птичьей песенке, которая рассказала ему о моем презрении.
Если приходила радость, то она оценивалась как последствие неожиданного благословенного события – чудесное послание от меня во сне, озарение, «явившееся» во время молитвы или медитации.
Он заключил себя в темницу любовной самодостаточности, и ни в радости, ни в отчаянии он не собирался угрожать мне и даже говорить со мной. Три раза с включенным диктофоном я переходил на его сторону улицы, но он скрывался.
– Ну и убирайся! – кричал я в его удаляющуюся спину. – Хватит таскаться за мной. Хватит донимать меня своими тупыми письмами. – В действительности думая: «Вернись и поговори со мной». Вернись и, оценив всю безнадежность твоего случая, обеспечь меня неприкрытыми угрозами. Или доверь их телефону. Выскажи все моему автоответчику.
Естественно, мои выкрики нисколько не повлияли на тон письма, полученного на следующий день. Оно было полно счастья и надежды. Он был непоколебим в своем солипсизме, а я уже начинал нервничать. Логика, способная за один шаг довести его от отчаяния до ненависти, от любви до разрушения, была непредсказуема и индивидуальна, и если Перри решится подойти ко мне, предупреждения не будет. Я стал с особой тщательностью запирать квартиру на ночь. Выходя из дома в одиночку, особенно вечером, я все время проверял, кто идет за мной. Я стал чаще ездить на такси и, вылезая, всегда оглядывался по сторонам. Преодолев небольшие трудности, я договорился о встрече с инспектором местного отделения полиции. Я начал фантазировать на тему оружия, которое может понадобиться мне для самозащиты. Газовый баллончик? Кастет? Нож? Я мысленно разыгрывал жестокие схватки, из которых неизменно выходил победителем, но в рациональной глубине своей души – этого органа тупого здравого смысла – я знал, что он вряд ли подойдет ко мне прямо. Кларисса в конце концов исчезла из мыслей Перри. Он больше не упоминал о ней в письмах и ни разу не попытался с ней заговорить. Более того, он активно ее избегал. Каждый раз, когда она выходила из квартиры, я наблюдал из окна в гостиной. Стоило ему заметить через стеклянные двери подъезда, что она спускается по лестнице, как он торопливо удалялся, не дожидаясь, пока она выйдет из дома. Она уходила, и он возвращался на свою позицию. Считал ли он, в рамках своей личной повести, что таким образом щадит ее чувства? Воображал ли себе, что я все объяснил Клариссе и теперь она, в общем-то, выбыла из игры? Или что он сам каким-то образом все уладил? Или что в нашем деле вообще не требуется никакой слаженности?
Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 61