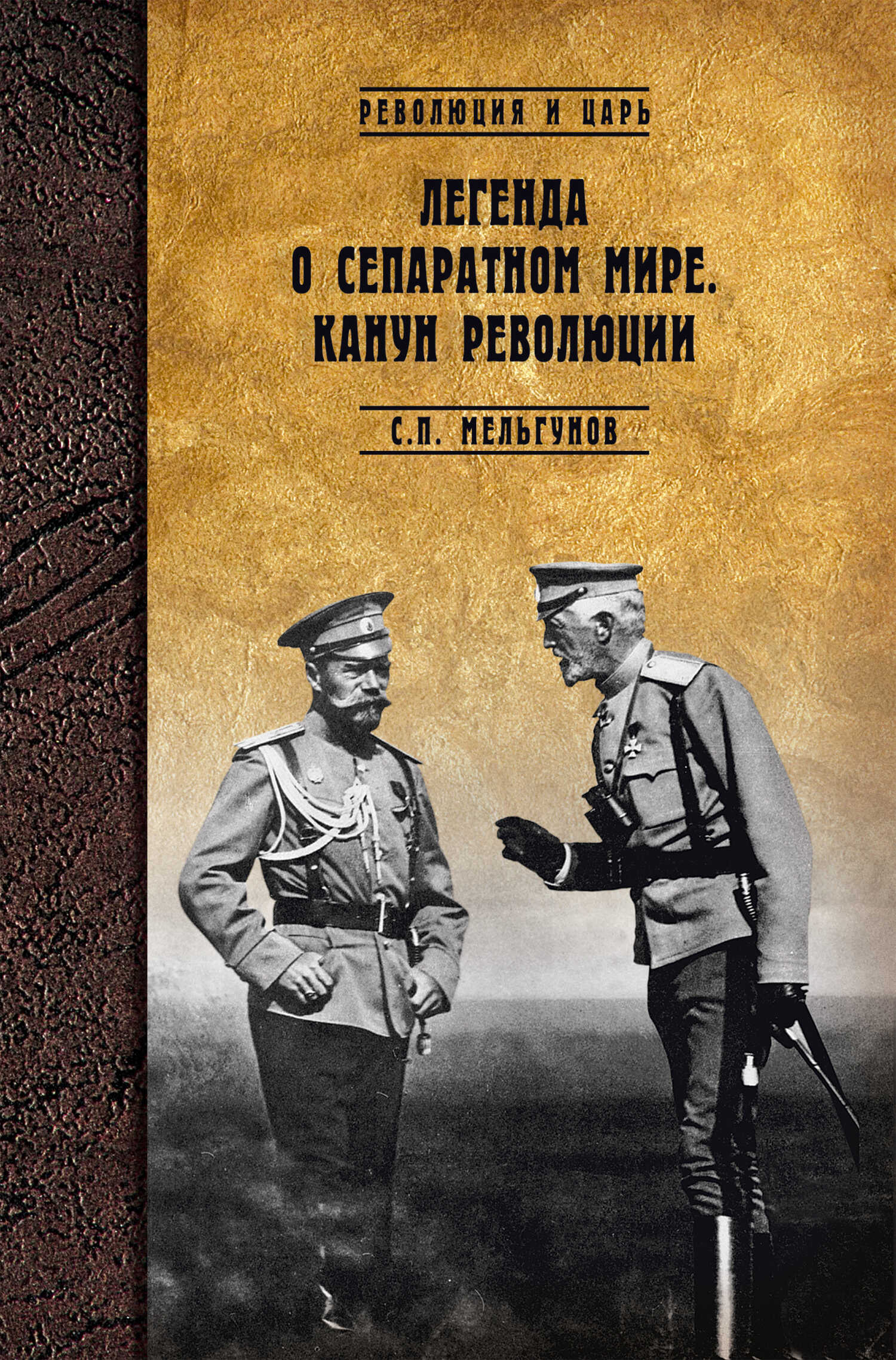как и многие другие ответственные решения в те дни. Творцы его, загипнотизированные текущей столичной действительностью, едва ли серьезно задумывались о завтрашнем дне. Верно в этом отношении определил суть дела ген. Алексеев на московском августовском государственном совещании, он сказал: «Говорят, что этот акт отвечал моменту. Может быть. Но отвечал ли он миллионам моментов будущего, через которые должна пройти наша родина? Беспристрастная история в очень скором времени укажет место и этому акту: явился ли этот акт актом государственного недоразумения или актом государственного преступления…»* * *
Остается открытым, быть может, самый важный вопрос – по чьей инициативе советской резолюции была придана внешняя форма «приказа», ведь именно это, создав прецедент, оказалось чревато своими последствиями. В воспоминаниях Энгельгардта имеется чрезвычайно интересное пояснение, фактическая сторона которого могла бы быть заподозрена в силу очевидных неточностей, если бы в архивных документах Временного Комитета не сохранилась аналогичная тогдашняя запись б. председателя военной комиссии. Сообщив о своем объявлении, грозившем расстрелами офицерам за контрреволюционные деяния, Энгельгардт продолжает: «Заседание Врем. Ком. продолжалось (дело было “поздно вечером”), когда доложили, что явилась депутация от воинских частей петроградского гарнизона. Действительно, собралось человек 20—25 солдат, из коих некоторые предъявили удостоверение в том, что они выбраны представителями своих полков95. Они единодушно заявили, что солдаты утратили доверие к офицерам, которые с первых минут революции покинули их и заняли неопределенную выжидательную позицию. Ввиду этого пославшие их части требуют издания правил об избрании офицеров, предоставления солдатам контроля над всеми хозяйственно-операционными частями и установления новых взаимоотношений между начальниками и нижними чинами96. Я поспешил сообщить об этом Родзянко н Гучкову97. Они самым категорическим образом протестовали против издания чего-либо подобного и поручили мне так или иначе спровадить прибывшую депутацию, успокоив ее заявлением, что в ближайшем будущем будет создана особая комиссия… Успокоив этим заявлением солдат, я вернулся в помещение Врем. Ком., где уже не застал Гучкова, – он отправился на вокзал, чтобы ехать в Псков к Царю. Вскоре меня вызвали вновь в коридор. Ко мне подошел довольно распущенного вида солдат, который отрекомендовался членом Совета Р.Д. – «К вам являлись представители целого ряда частей с просьбой выработать новые правила воинской дисциплины, – сказал он. – Совет Р.Д. очень заинтересован этим вопросом и предлагает Врем. Комитету разработать его совместно»98. Я возразил ему, что Врем. Ком. Г.Д. находит опубликование таких правил недопустимым. «Тем лучше, – ответил он мне, – сами напишем». На следующий день между двумя и четырьмя часами дня на стенах Петрограда появился знаменитый «приказ № 1».
Нам нет необходимости вводить фактические поправки к изложению мемуариста – эти поправки вновь выступают сами собой. Из его повествования мы можем заключить, что Врем. Ком. был достаточно осведомлен о происходившем, и поэтому никак нельзя сказать, как это сделал Милюков в «Истории революции», что «как-то со стороны и врасплох был подсунут Времен. Ком. Г.Д., поздно вечером 1 марта, текст знаменитого приказа № 1». Когда Милюков говорил о том, что текст «приказа» был «подсунут» Врем. Ком., он имел в виду появление того неизвестного члена Исп. Ком. в «солдатской форме», о котором рассказывал Энгельгардт. Почему все-таки мемуаристы, принадлежавшие к составу Врем. Ком., так упорно говорят о «приказе № 1», связывая его с ночным бдением при участии советских делегатов и в частности с именем Соколова? Может ли это быть отнесено к той только спутанности восприятия в царившем хаосе, которую мы отмечали и которую усилила литературная небрежность мемуарных перьев? Не исключена, конечно, возможность, что Соколов, председательствовавший на советском «митинге» и редактировавший текст резолюции, пытался в той или иной мере легализировать полезное с его точки зрения действие Совета через членов военной комиссии. Ведь нельзя же было в действительности ограничиться только энгельгардтовской угрозой расстрела заподозренных в контрреволюционных намерениях офицеров и обещанием создать соответствующую комиссию99. Если бы текст «приказа № 1» был разработан совместно, вероятно, и формулировка одиозных пунктов получилась бы несколько иная, и издан «приказ», очевидно, был бы не от имени Совета. В отрывке воспоминаний, напечатанном еще в 18 году в самарской газете «Волжский День», член Врем. правительства Вл. Львов рассказывал, спутывая все даты и излагая совершенно фантастически содержание документа, что Соколов появился на заседании уже образовавшегося правительства вечером 2-го и предлагал издать «приказ» от имени правительства. Думский комитет как-то отмахнулся (недаром Энгельгардт употребил слово «спровадить» в отношении прибывшей солдатской делегации) от той настоятельной потребности откликнуться на взволнованность солдатской массы, которая с очевидностью выступила в ту решающую ночь, когда фактически была определена судьба издания «приказа № 1». И тогда «инициативная» группа произвольно опубликовала «приказ». Весьма вероятно, что среди этой инициативной группы был скорый на руку, не очень вдумчивый, обуреваемый благими намерениями «оборонец» из большевиков прис. пов. Соколов, признавший у Гиппиус (запись 6 марта), что в «бурлящей атмосфере» им было, «что называется, хвачено».
* * *
Может показаться невероятным утверждение, что оглашение того «знаменитого приказа», который, по позднейшему выражению Терещенко (на июльском совещании в Зим. дворце), являлся «величайшим преступлением» и о котором другой член Врем. правит., Верховский, в дневнике-исповеди записал: «Будь проклят тот, кто придумал эту гадость»100, вовсе не произвело впечатления разорвавшейся бомбы, как утверждает большинство мемуаристов. Потому ли, что в Петербурге, где все уже было «перевернуто вверх ногами» и где казалась любая цена сходной, лишь бы начать приводить «солдатчину» в порядок («Все пропало, Армия разлагается», – говорил Станкевич Керенскому), потому ли, что «приказ № 1», по утверждению Керенского во французском издании его мемуаров, имел не больше значения, чем очередные приказы полк. Энгельгардта. У Керенского, принимая во внимание роль, им сыгранную, имеется совершенно удивительное признание, что с текстом «приказа № 1» он познакомился лишь в декабре 18 года в Лондоне (!!). Характерно, что «Русские Ведомости» даже не отметили его в своей революционной хронике. «Приказ № 1», другими словами, до некоторой степени был признан отвечающим моменту, – в нем не усмотрели первой ласточки, предвещавшей анархию двоевластия, не очень вдумывались в его содержание и форму, в которую он был облечен, и относили скорее в область положительной революционной пропаганды. Французский журналист Клод Анэ, вращавшийся отнюдь не в советских кругах, мог даже в своем «дневнике», воплощенном в корреспонденции из Петербурга, в весьма преувеличенных тонах написать: если Совет предполагает организовать революционную армию в духе этого приказа, мы можем приветствовать русскую армию –